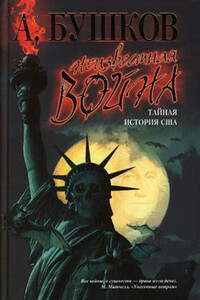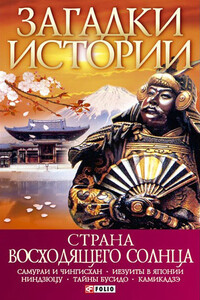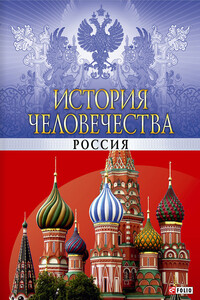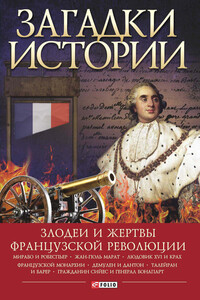Александр Невский | страница 75
Владимир, «не удовлетворенный этими справедливыми доводами, вышел из себя и, угрожая предать огню все замки Ливонии и саму Ригу», выстроил на поле свое войско и двинулся на ливонцев. Те, полные решимости сразиться, вместе с купцами и псковской дружиной вышли ему навстречу.
Когда противники сошлись, чтобы начать схватку, вперед выехал и псковский князь и еще несколько переговорщиков от немцев. Они стали убеждать полоцкого князя «не тревожить войной молодую церковь, чтобы и его не тревожили тевтоны, все люди сильные в своем вооружении и полные желания сразиться с русскими. Смущенный их храбростью, король велел своему войску отойти, а сам прошел к епископу и говорил с ним почтительно, называя отцом духовным; точно так же и сам он принят был епископом, как сын» (Хроника Генриха). После не достигшей цели демонстрации силы Владимир был вынужден возобновить переговоры. Трезво оценив свои силы и шансы на военную победу, он вынужден был пойти на уступки. По словам Генриха, «по божьему внушению», полоцкий князь отказался от дани с ливов и «предоставил господину епископу всю Ливонию безданно, чтобы укрепился между ними вечный мир как против литовцев, так и против других язычников, а купцам был всегда открыт свободный путь по Двине».
Отечественные историки упрекают полоцкого князя в том, что он совершил роковую ошибку, разрешив католическим священникам проповедовать среди прибалтийских язычников. Например, Костомаров пишет: «Полоцкий князь Владимир, по своей простоте и недальновидности, сам уступил пришельцам Ливонию и этим поступком навел на северную Русь продолжительную борьбу с исконными врагами славянского племени (указ. соч., с. 79). Однако договор, заключенный в 1212 году между Ригой и Полоцком при посредничестве псковского князя Владимира Мстиславовича, наглядно свидетельствует о том, что у северной Руси был противник более опасный, чем немецкие колонисты и крещенные ими аборигены — литовские язычники. А с теми, кого Костомаров называет «исконными врагами славянского племени», и Новгородская земля, и Полоцкое княжество вели взаимовыгодную торговлю, которая не прекращалась даже во время войн с Ливонией. И то, что Полоцк ради сохранения свободного пути купцам по Двине отказался от своих притязаний на выплату дани с ливов, означает только одно — доходы, которые сулила торговля с немцами и Ригой, стоили того. Обеспечив безопасность со стороны полоцкого княжества, Ливония все силы бросила на покорение Эстонии. Война с эстами достигла наибольшего напряжения в 1215 году. Как сообщает Хроника Генриха, эсты объединились, чтобы «сразу с тремя войсками разорять Ливонию». Флотилия эзельцев должна была осадить Ригу и загородить гавань на Двине, два других отряда в это время опустошить землю ливов и лэттов., чтобы они, «задержанные войной у себя, не могли прийти на помощь рижанам».