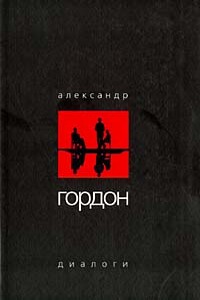Диалоги (март 2003 г.) | страница 86
Г.М. Это действительно очень серьёзная научная задача. Например, сейчас у нас в очень тяжёлом состоянии масса водохранилищ. Масса плотин. Поэтому это тяжёлый вопрос. Вторая вещь. То, что вы показали, это «эффект Касандры». Знаете, люди действительно не готовы принять предсказания. Предсказания, которые достаточно реалистичны. Я не хотел бы говорить о Везувии, потому что это действительно очень интересный вопрос. Многие опасные места крайне выгодно заселять. Возьмите Лос-Анджелес. Он стоит на разломе. Сейчас наиболее развита теория прогноза землетрясений именно в штате Калифорния. Потому что на самом деле это то место, где действительно может произойти землетрясение.
А.Г. Это ведь самый населённый штат США.
Г.М. Но, вместе с тем, есть инженерные сооружения, есть специальные технологии, есть специальные методики, которые позволяют управлять риском. Позволяют, не бросая этого места, тем не менее жить там. И жить очень успешно. Так вот, я приведу два примера по части управления риском. Несколько лет назад я поставил вопрос перед нашими коллегами из МЧС следующим образом. Давайте мы с вами проанализируем те угрозы, на которые у нас нет сильного системного ответа. И вот, в частности, там было несколько решений. Не хотел бы говорить о многих, скажу только об одном. Мегаполисы невозможно защитить. Это говорилось примерно за год до 11 сентября. Представьте себе, что у вас взрывают две башни торгового центра, этот вот знаковый объект. Спрашивается, каков должен быть системный ответ? Представим себе, что у нас перерубают энергию, я не буду характеризовать технические детали, но это можно сделать. И вся территория России, европейская часть, может остаться без света. Это тоже можно сделать. И так далее, и так далее. Давайте мы всерьёз займёмся этим. Вот сейчас есть коалиция, которую нам удаётся отчасти организовать, но, к сожалению, очень медленно, которая будет этими вещами заниматься. Мы называем это прогноз кризисов. Она только создаётся. И вторая вещь по части пользы нашему колхозу. Вторая вещь связана с проблемой человека. Вы знаете, в Финиксе, в штате Аризона, когда я пришёл в университет и мне показали, как они учат врачей, я спросил: «Человек пришёл учиться на врача, на хирурга. Когда он начнёт оперировать?» Вы знаете, какую мне цифру назвали? 15 лет. То есть после того, как он поступил, до того, как он начнёт оперировать на сердце, пятнадцать лет. Представьте себе, насколько профессиональная жизнь увеличилась бы, если бы мы научились учить быстрее. Понимаете? Мы просто не знаем как людей учить. Вот сейчас, скажем, в нашем институте, недавно ушедший от нас академик Олег Иванович Ларичев разрабатывал такие системы. Выясняется, как же мы действительно учим. Есть ещё один очень любопытный прогноз. Если 20-й век был веком «хайтека», высоких технологий в сфере промышленности, сельского хозяйства, военного дела, то, видимо, 21-й век будет веком высоких технологий, как в Соединённых Штатах называют «хайхъюма» – высоких технологий, связанных с реализацией возможностей человека. Здесь есть гигантские возможности и громадная опасность. Представьте себе, что вы в состоянии учить хотя бы в пять раз быстрее. Более того, представьте себе, что вы в состоянии организовать действительное взаимодействие людей очень активно, скажем, – врачей и математиков. Вот у нас на прошлой неделе защищалась докторская диссертация. Докторская диссертация, посвящённая математическому анализу, обратите внимание, не организма, а процесса принятия решений лечащим врачом.