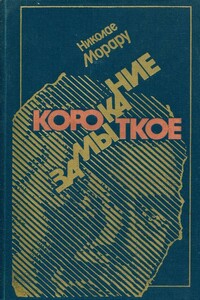Дело Матюшина | страница 48
Оказалось, что повар был местым, родиной его был какой-то колхоз под Ташкентом, к нему ездили через день жена, младшие братья, привозили ему из дома еду. Но и солому эту привозили, он прятал в мешочке под печкой и давно сошел с ума, высыхал да умирал на глазах от этого курева. Повар улыбался тупо да отмалчивался с лазаретными, но хитро так прятался в нем сумасшедший, молчком да с улыбочками. Если ж он что-то чувствовал, к примеру, начинал бояться, то страх овладевал им всем, вываливался грыжей из души, а испугать его так, насмерть, могла брякнувшая на полу пустая кастрюля. Работать он и вправду не мог, его уж и нельзя было даже заставить работать. По ночам он не спал, потому что не мог спать, как человек, если только не обкуривался до бесчувствия. И то, что ножа не выпускал из рук, имело особый смысл – хлебный тесак был той ниточкой, что единственно связывала его с жизнью, иначе он вовсе ничего не чувствовал, не понимал. Он убивал себя, но будто бы играл со смертью, ставшей для него безлично чьей, а никто этого не ведал. Он подстерегал Матюшина, когда они оставались в хозблоке наедине, дожидаясь мига, чтобы тот нагнулся или присел на табуретку, и тогда подскакивал сзади и прихватывал его горло тесаком. Когда случилось это в первый раз, Матюшин только и успел растеряться от неожиданности его прыжка. Подумал он, что повар петушится, попугивает, хотел откинуть его руку. Узбечонок же весь задрожал, сдавил горло тесаком, ничего не говоря, и тогда, выпучивая глаза, Матюшин, как и он, задрожал. Этот его страх смерти потихоньку успокоил повара, а может, и спас жизнь
Тронуть его Матюшин тогда остерегся, но после второго такого раза, пережив то же самое, выждал, что опустился нож, и с маху об стенку пришиб. Узбечонок и сделался как пришибленный, забился в угол. Но через день все повторилось. Обкурившийся повар уж заставил Матюшина осесть на пол, заполз с ним в угол, не отнимая от горла тесака, готовый чуть что полоснуть. Никто б не пришел на помощь. Спросонья добегали разве до сортира, в остальных частях здания даже не положено было гореть свету – хозблок погружался в ночь, будто с дырой в днище, захлебывался ее черными водами и тонул. Узбечонок, пьяненький от курева, требовал поминутно ответа, хороший он человек или нет, гуляет на воле или нет его жена. Матюшин сказал, что хороший он человек, и, получив отдышку, ответил и про жену его наугад, что хорошая она женщина, но тесак впился в его горло. Повар взвыл дико, давая ему какой-то миг, и Матюшин вскрикнул, цепляясь судорожно за слова: