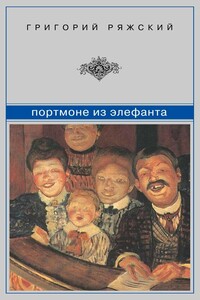Дело Матюшина | страница 25
– Выпей – за наш родной Ельск! Водочку, водочку, а вина этого кислого мы пить не будем. Пусть они пьют, слыхали, пейте сами свою кислятину! – крикнул он кому-то, размахнулся бутылкой, спьяну не удержавшись и повалившись на чьи-то тела.
Пьяный вагон гудел, веселя Матюшина. После жратвы, водки теперь захотелось курить, и Ребров взялся вести его в тамбур, прокладывая дорогу, храбрясь:
– Расступись! Пришибу!
Команда их занимала полвагона, смешавшись с гражданскими, с нерусскими. Тут ехали те, которых Матюшин и не знал, как называть, с копчеными скуластыми лицами. Много было стариков и старух, опрятно одетых, что сидели, забившись в уголки, и пугливо, улыбчиво глядели на него снизу, задирая костистые круглые головки. Бегали и орали на своем языке, точно хрипели, ихние дети: бритоголовые, голые, а кто повзрослей – в трусах, похожие смуглостью на чертят. Никто детей не одергивал, не запрещал им орать и бегать, будто ехали они сами по себе, без родителей. Пройдя узкой стежкой – чудилось, по-над пропастью этого народца, – зашли они в тупик вагона, где занял место и бдил у дверки в тамбур капитан.
Причесанный, точно зализанный, он сидел за пустым, без еды, столиком, читая натощак не первой свежести, читанную уж газетку, а с ним томились, тихли подле него трое попутчиков-призывников. Тут, в его углу, царил укромный строгий порядок, какого не было и духа в кишащем людьми, распахнутом настежь да пьяном остальном вагоне: висели по местам вещи, сидели по местам люди. Верно, есть капитану было нечего, порастратился. Домашний, помолодевший, уже не задраенный в китель, а вылезший из него на свободу, в летней офицерской рубашке, но в дорожной неволе, выглядел он командировочным, точно и посторонним человеком.
– Товарищ капитан, Федор Михайлович, мы перекурить! Разрешите выйти в тамбур? Вот земляка встретил! – притворно радуясь, чуть не придавливая, ринулся грудью на капитана ельский, от которого и так несло за версту.
– Иди кури… – буркнул капитан и уткнулся сердито в газету, замечать не желая пьяных рож.
Ельский попятился, угодливо лыбясь, спиной. А за спиной, не видимая капитану, торчала заткнутая за ремень бутылка. Так он умыкнул ее в исчадье грохочущее плацкартного вагона – в тамбур. Разогнулся, выдернул и, блажной, потрясая ею, загоготал в черноту:
– Купился, капитоха, купился! Налетай!
В тамбуре сгрудилось народу видимо-невидимо. Надрывали глотки, кричали, братались, радовались, что везут в теплые края служить, хоть в тамбуре было черно да одиноко, как в глубокой яме. Матюшин вслушивался, не видя в табачном дыму лиц. Но вдруг распознал ясно, что все тут боятся. Потому и не могут молчать, что боятся. Потому никто здесь не мог и заснуть или хоть прилечь на нары отдохнуть, а шатались, бились в бессонной жорной горячке, что боялись. Отняв у кого-то бутылку, Матюшин глотнул водки, но, сколько ни вливал он потом в себя, опьянеть не мог – все куда-то испарялось. Даже и весело ему было не от выпитого, а потому что все кругом орали, не спали, жрали – с ума посходили от своего страха. Точно видишь толпу голых и смешно, что голые они да еще и скачут.