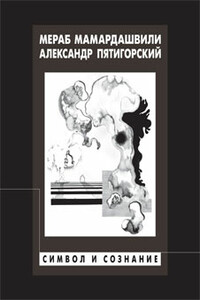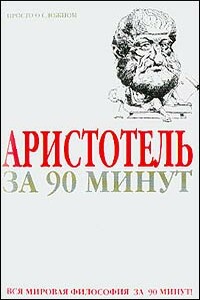Дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно | страница 13
Еще раз обращусь к Достоевскому, замкну на него тему. Он как автор и мыслитель рождался вот такими дискретными мгновенными рождениями внутри своего писания. Знаете, я думаю, что графоманство – это писательство, внутри которого ничего не происходит. Художнику же собственное прозрение приходится все время завоевывать: каждый раз заново. И на волне такого усилия и напряжения и создается какое-то особое время жизни, не текущее хронологически, но то, в котором ты пребываешь. Создается напряженная зона сознания. Так бы я мог определить и театр.
Но думаю, что подобное свойственно и событиям социальным, явлениям историческим. Например, я могу считать, что феномен античной Греции есть феномен пребывания всех греков в некоей зоне напряженного (и со-пряженного) сознания. Греки располагали многими средствами, чтобы поддерживать это напряжение. Они не случайно занимались философией, ставили трагедии – и не случайно приходили на агору. Ведь именно тут кристаллизовалась гражданская жизнь. Наша-то беда еще и в том, что у нас нет такой агоры.
– Сейчас, похоже, появляется – в «пространстве гласности», на газетных и журнальных страницах, в телестудиях и даже на трибуне партконференций.
– Речь не о «месте», куда приносишь готовые мысли, хотя и это – возможность высказаться – очень важное дело! Некоторые мысли (и, наверное, самые существенные для человека) способны рождаться только на агорах …
– Не в том ли социальная функция театра, давно уже названного «кафедрой» и «храмом»?
– Да, театр, думаю, к тому и призван. Но только если мы не станем предполагать, что есть готовая истина, которую можно сообщать со сцены, и готовый зритель, который ее автоматически воспримет.
– И готовый художественный язык… Вот, например, любопытный и уже почти хрестоматийный фильм «Покаяние». Имею в виду то, вокруг чего уже много копий сломано: адекватна ли его теме «чрезмерность» формы; и вообще, что делает гротескная притча там, где уместна была бы суровая хроника…
– Абуладзе стоял перед головоломной проблемой: как изображать бред, являющийся даже не частью жизни, а почти заместивший ее собою. Ведь кроме «обычного» человеческого страдания, насилия, несправедливости в самой действительности, слышится какой-то дополнительный скрежещущий призвук, сообщающий трагедии фарсовые оттенки.
Разве достаточно тут сказать, что тиран погубил художника? Как это изобразить, чтобы трагедия не обернулась комедией? Он выбирает путь рефлективного остранения.