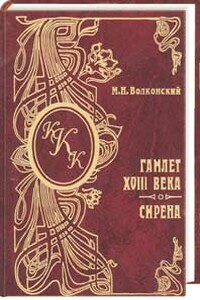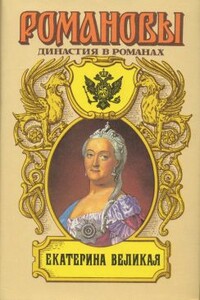Грань веков | страница 78
Разумеется, были десятки примеров, когда ссылки на новый закон не находили отклика ни у местной власти, ни у высшей. Историк приводит документы, свидетельствующие, что, и с точки зрения самого царя, позволительно облагать крестьян поборами сверх трехдневной барщины, лишь бы «крестьяне не приводились в разорение».
Однако от того, что происходило, вернемся снова к представлениям народа. Мужики (раньше всего в столичных, но затем и в более далеких краях) быстро почувствовали какую-то перемену в верхах. Облегчающие указы, особенно манифест от 5 апреля, возбуждали умы: пугачевщина еще не забыта, вера в царя-избавителя постоянна. Нарушения закона о «трех днях» и прочие крепостные тяготы рассматриваются как неподчинение дворян царской воле. Летом 1797 г. владимирский дворцовый крестьянин Василий Иванов в разговоре о господах произнес слова, попавшие вместе с доносом в Тайную экспедицию: «Вот сперва государь наш потявкал, потявкал да и отстал, видно, что его господа преодолели».
Прибавим ко всему этому замеченные, конечно, крестьянами испуг, растерянность многих помещиков, опалу и ссылку сотен дворян, и мы можем еще полнее представить тогдашний крестьянский взгляд на вещи.
Покидая деревни и мысленно переносясь во дворцы, мы также найдем нечто более сложное, нежели трактуется, например, в одной из последних работ на эту тему. «В целом павловское законодательство по крестьянскому вопросу, – пишет Л. II. Важова, – было направлено на то, чтобы, сохраняя и укрепляя крепостное право, уменьшить поводы для крестьянских волнений. ( … ) В крестьянском вопросе Павел был продолжателем крепостнической политики Екатерины II. За 1795 – 1798 гг. произошло 184 волнения крестьян».
Действительно, волнения крепостных, особенно в Орловской губернии, были сильны, и в них участвовали тысячи крестьян. И тем не менее в приведенных строках явно смешивается объективное и субъективное; то, что для нас очевидно как безусловное крепостничество, не всегда представлялось таковым же Павлу I. Разумеется, мы прежде всего размышляем над тем, «что из этого вышло», и тут спора нет: крепостное право оставалось… Но ведь нас интересуют и те идеологические формы, в которых сознание исторического деятеля отражает реальную действительность. Смешно называть Павла «народным царем», но мало что дает и формула «продолжатель крепостнической политики Екатерины II». Если мы соединим «крестьянские» указы Павла с «дворянскими», то получим картину достаточно сложную (вспомним фразу прусского посла: «Недовольны вес, кроме городской черни и крестьян»).