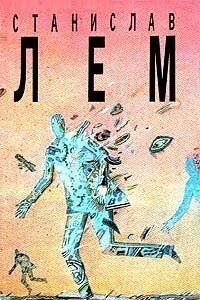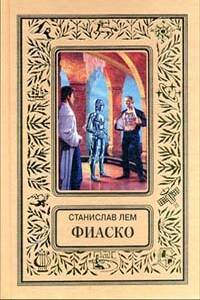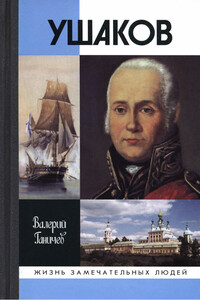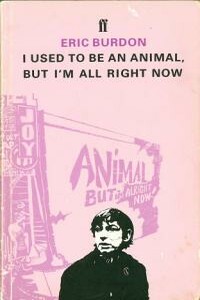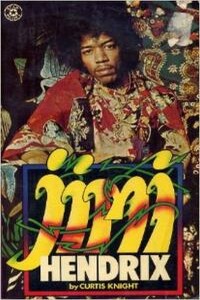Высокий замок | страница 16
Но все это лишь предварительные и, добавим, элементарные замечания. Я помню ворота, лестницу, двери, коридоры и комнаты того дома на Браеровской, в котором родился; я помню также множество людей, например тех же соседей, но без лиц, потому что эти лица изменялись, а моя память, не отдающая себе отчета в неотвратимости подобных изменений, была бессильна перед ними, так же как фотографическая пластинка бессильна перед движущимся предметом. Конечно, я могу себе представить отца, но четче буду видеть его фигуру, одежду, нежели черты лица, потому что друг на друга наложились образы многих лет и я не знаю, каким хочу его увидеть: уже совершенно седым или еще крепким пятидесятилетним мужчиной; подобным же образом обстоит дело со всеми, рядом с которыми я пребывал достаточно долго. Когда погибают фотографии и портреты, проявляется эта наша полнейшая безоружность перед лицом времени; узнать, каково его действие, можно рано и быстро, но это знание теоретическое, ни на что, собственно, не пригодное; ведь уже пятилетним мальчишкой я знал, что означают понятия «молодой» и «старый», потому что было старое масло и молодая редиска, я многое знал о днях недели, даже о годах (у лет были свои оттенки – двадцатые годы были светлые, потом, по мере приближения к девятке, они темнели), а ведь, по сути дела, я верил в неизменность окружения. Особенно людей. Я не мог примириться с мыслью, что взрослые не всегда были такими. Меня даже немного раздражали те уменьшительные имена, которыми они наделяли друг друга; мне это казалось противоестественным. Ведь уменьшительные имена были только для детей. Мне казалось абсурдным, когда старик обращался к другому старику, называя его «мой Стась». Если я не говорил об этом никому, то только потому, что чувствовал: все равно меня никто не поймет.
Итак, время в те годы было пучиной, недвижимой в себе самой, как бы инертной, неактивной. В нем, словно в море, происходило многое, но само оно как бы стояло. Каждый школьный час представлял собою что-то вроде Атлантического океана, который требовалось переплыть с мужеством самоотречения в сердце, от звонка до звонка проходили насыщенные опасностями вечности; что же говорить о летних каникулах, которые превращались в целые эпохи. Об этой – немыслимой для меня теперь – пространности часов или дней я рассказываю так, словно бы я об этом от кого-то услышал, а не так, будто познал это сам, – я не в состоянии этого ни уразуметь, ни представить. Со временем все стало свершаться гораздо быстрее, и пусть не говорят мне, будто лгут ощущения, а часы отмеряют одинаковый ритм бега времени; я скажу, что все обстоит совсем наоборот: лгут часы, потому что физическое время не имеет ничего общего с биологическим. Какое нам дело – за пределами физики – до времени электронов или зубчатых колес? В этом разделении мне всегда чудился какой-то подвох, я ощущал какую-то низость, замаскированную методами времяисчисления, нивелирующими все изменения. Мы появляемся, полные веры, что все обстоит именно так, как мы видим, что делается то, о чем нам говорят наши органы чувств, а потом неизвестно как и когда оказывается, что дети взрослеют, а взрослые начинают умирать.