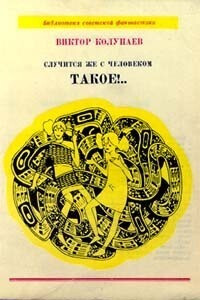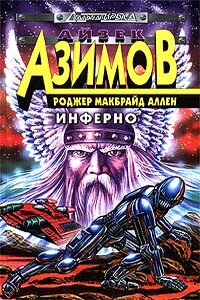Рассказы | страница 139
Начало каждого такого вечера пропадало для Чеснокова зря. Он ничего не мог написать. В голову лезла всякая ерунда, которая отлично рифмовалась, но в ней не было ни крупицы чувства. Плоское, ремесленное, как по заказу для ширпотреба.
- Вовка, перестань мучиться, - говорила обычно Анечка, вытирая мокрые руки передником и бросая свою работу. Она брала его за шею своими маленькими крепкими руками и заглядывала ему в глаза. И ее глаза были крохотным, но интересным, ласковым миром. Маленькой вселенной.
- Ну, отпусти меня, - говорила она.
- Подожди, - отвечал он. - Я еще не все прочитал.
- Что там можно прочесть?
- Все. Там все мои стихи.
Она прижималась к его груди и слушала, как бьется сердце, восторженное и одержимое.
Потом они садились на диван или прямо на пол, и она о чем-нибудь его спрашивала, а он отвечал. Или он спрашивал, а она отвечала. Они вспоминали: "А помнишь...", мечтали: "Вот будет здорово...", спорили: "Володька, ты не прав"; решали тысячи проблем и создавали тысячи новых. В голове у Чеснокова рождались музыка и стихи. Стихи у него всегда были связаны с музыкой. Анечка замолкала, чувствуя, что с ним происходит что-то странное. Может быть, это состояние странности она и любила в нем больше всего. Он и сейчас был таким же, как в день их знакомства. И она хотела, чтобы он был таким всегда - близким, родным и странным.
- Прочти, - просила она шепотом.
Он начинал говорить. И она переносилась в странный, необычный и в то же время удивительно знакомый мир.
В нем были друзья, знакомые, старый сибирский город, ветер морей, россыпи звезд, молоденькие деревца и крики ребятишек за окном. Все было так, как она привыкла видеть каждый день, и только какой-то сдвиг его настроения делал все свежим, удивительно неожиданным. Мир раскрывался под каким-то новым углом зрения. Может быть, это было вдохновение? Или талант? В его мире плакали и смеялись, радовались и печалились, любили и ненавидели. Но все в нем было честным, странным и необыкновенным. И если в его стихи иногда врывался крик боли и отчаяния при виде уродства человеческих отношений, то он звучал диссонансом. Очень странным диссонансом, без которого вся музыка поэзии превращалась в изящную пошлость.
Перо и бумага ненужными валялись на столе.
- Кажется, начинается сплошная ерунда, - говорил он, и они шли гулять в Университетскую рощу или Лагерный сад, если погода была хорошая, или, раскрыв дверь на балкон, слушали шум дождя. И молчали.