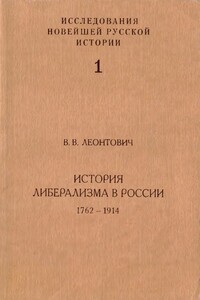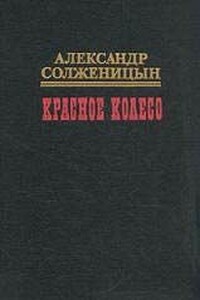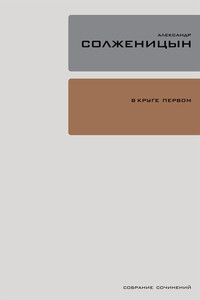Двести лет вместе. Часть вторая. В советское время | страница 107
Осоргин писал: «В России ни в общественном, ни в революционном движении (имею в виду глубины, а не поверхность) «русского одиночества» не чувствовалось, и виднейшими фигурами, дававшими тон и окраску… были русские – славяне». Не то теперь в эмиграции: «там, где духовный уровень выше, где углублены интересы мысли и творчества, где калибр человека крупнее, – там русский испытывает одиночество национальное; там, где близких ему по крови больше, – одиночество культурное. Эту трагедию я и обозначаю словами заголовка: русское одиночество… Я ни в какой мере не антисемит, но я в большой мере русский славянин… Свои, русские, мне гораздо ближе по духу, по чистоте языка и говора, по специфическим национальным достоинствам и недостаткам. Иметь их моими единомышленниками и соратниками мне ценнее, просто даже удобнее и приятнее. В многоплеменной, вовсе не русской России я умею уважать и еврея, и татарина, и поляка, – и за всеми ими признаю совершенно одинаковое со мною право на Россию, нашу общую и нашу родную мать: но сам я из русской группы, из той духовно влиятельной группы, которая дала основной тон российской культуре». Однако вот теперь «русский за рубежом захирел и сдался, уступив общественные посты иноплеменной энергии… Еврей акклиматизируется легче… – его счастье! Зависти не испытываю, готов за него радоваться. С тою же готовностью уступаю ему честь и место в разных зарубежных общественных начинаниях и организациях… Но есть одна область, где „еврейское засилие“ решительно бьёт меня по сердцу: область благотворительности. Я не знаю, у кого больше денег и бриллиантов: у богатых евреев или у богатых русских. Но я совершенно точно знаю, что все большие благотворительные организации в Париже и в Берлине лишь потому могут помогать нуждающимся русским эмигрантам, что собирают нужные суммы среди отзывчивого еврейства. Опыт устройства вечеров, концертов, писательских чтений достаточно доказал, что обращаться к богатым русским – бесполезная и унизительная трата времени… Лишь чтобы смягчить тон этой столь явно «антисемитской» статьи прибавлю, что, по моему мнению, национально-чувствительному еврею может часто мерещиться оттенок антисемитизма там, где в действительности присутствует лишь национальная чувствительность славянина»[452].
Статью Осоргина сопровождал в том же номере редакционный комментарий (по сути мыслей и стилю принадлежащий, вероятнее всего, главному редактору Жаботинскому); М. А. Осоргин «напрасно опасается, что читатели «Рассвета» усмотрят в [статье] антисемитские тенденции. Одно время было, правда, на свете такое поколение, которое инстинктивно шарахалось от слова «еврей» в устах нееврея. Один из заграничных вождей этого поколения сказал: «Лучшая услуга, какую может нам оказать передовая пресса, это – не говорить о нас». Его послушались, и в течение долгого времени в приличных прогрессивных кругах России и Европы, действительно, принято было смотреть на слово «еврей» как на звук непечатный. Слава Господу, время это прошито». Осоргина мы можем «уверить в нашем понимании и сочувствии… Впрочем, в одном пункте мы с [ним] прямо несогласны. Он придаёт слишком большое значение роли евреев в беженской благотворительности. Прежде всего – эта преобладающая роль естественна. Взаимопомощь есть один из основных навыков диаспоры. Мы учились технике диаспорального быта очень долго; русские – никогда… Но есть и более глубокая сторона вопроса… Мы от русской культуры получили много ценного – даже для нашего будущего самостоятельного национального творчества… Перед русской культурой мы, российские евреи, должники; никакими грошами мы этого долга не заплатим. Те из нас, которые делают, что могут, чтобы помочь ей пережить тяжёлое время, поступают правильно и, надеемся, будут так поступать и впредь»