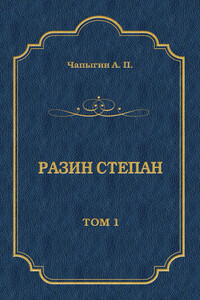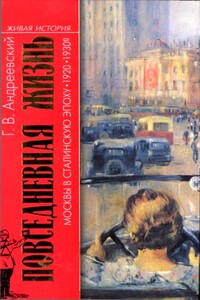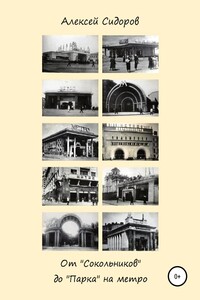Разин Степан | страница 4
— Будь крепче! Идем, кабаки отперли.
— Иду, голубь-голубой… Иду, а тяжко идти…
2
Кабак гудел. Широкая дубовая дверь раскрыта настежь… Едкий воздух сивушного масла, спирта, потных тел, подмоченных лохмотьев и рубищ не давал дышать непривычному к кабацким запахам. Светлело в бревенчатой обширной избе с заплеванными стенами и чавкающим от грязи земляным полом. За стойкой на стене висела желтая бумага с черными крупными буквами. В стороне в железном подсвечнике на ржавом кронштейне горела оплывшая сальная свеча, мутно при утреннем свете скупым огоньком пятная бумагу. Каждый, кто смотрел на бумагу, мог прочесть:
«По указу царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси и великия и малыя — питухов от кабаков не отзывати, не гоняти — ни жене мужа, ни отцу сына, ни брату, ни сестре, ни родне иной, — покудова оный питух до креста не пропьется».
Казак по-особому зорко оглянул обширный сруб с курным, как в овине, бревенчатым потолком. Его взгляд скользнул в глубину кабака, где за перерубом с распахнутой дверью выглядывала без заслона с черным устьем большая печь.
Казак высматривал истцов.[5] Лицо его стало спокойно, он повел широким плечом, положил на стойку деньги:
— Косушку и калач!
Женщина задремала, вскинула сонными руками, казак поддержал ее, но жупан распахнулся и голое, плотное тело, запачканное землей, открылось. Целовальник, косясь на саблю казака, на окровавленные руки, подал откупоренную косушку, положил калач, густо обваленный мукой.
— Где экую откопал?
Женщина вздрогнула и, схватив было, уронила калач. Казак нахмурил густые брови, но спокойно ответил:
— Пропилась, лихие люди натешились да раздели… Подобрал вот, вишь, согреваю.
Целовальник сощурился, недобрым голосом прибавил:
— Спаси бог! Житья не стало от лихих людей. Почесть, что ни ночь Москва горит…
Сквозь слюдяные, проткнутые во многих местах окна чирикали воробьи, слышался звон и громыхание каких-то тяжелых вещей, которые не то катили, не то везли.
— Немчин опять на государев двор пушку тянет…
— Молыть надо: Кукуй[6] — подь на Кукуй!
— А не скажу того — кнута пробовал! — шутили в глубине кабака у двери в прируб, на бочках огромных и пузатых, оборванцы-питухи. Они сидели в обнимку с женщинами, столь же неприглядными, как и мужчины. Женщины лезли одна к другой и спорили. Целовальник крикнул:
— Драться, жонки, вольготнее на улице!
— А ты там стой! Она у меня Микешку отбила, а Микешка мою кику[7] спер…
— Ой, ой! Да она, вишь ты, не посадская жонка?