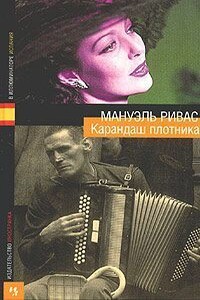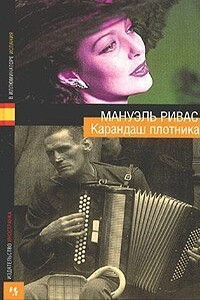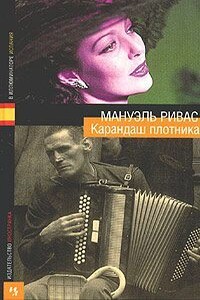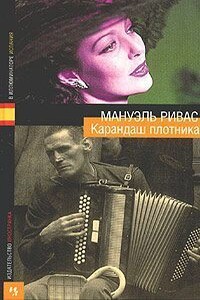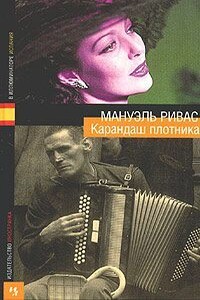Старая пчелиная царица пускается в полет | страница 2
– Ну, папа, давай же, спой «Мои любови».
– Да, да, пусть споет дедушка.
Он задумался: эти пчелы, что тянут нектар из белых яблоневых цветов, откуда они – из его ульев или из сада Гадона? Он любил горячий и очень сладкий кофе, но чашка остыла у него в руках, пока он отрешенно глядел на оконный экран.
«Мои любови»! Этой балладе его научил приятель, с которым в Швейцарии они жили в одном бараке. Обычно он с трудом запоминал песни, но эта к нему прямо приросла – не оторвать. Эта лилась у него откуда-то изнутри, все равно как молитва, как патриотический гимн, который исполняет сама утроба, оплодотворенная темными картофелинами, съеденными на ужин в иммигрантском бараке. После его возвращения из Швейцарии они каждый год все вместе отмечали день святого Иосифа, и он непременно пел «Мои любови». Он уже превратился в патриарха, стал самым старым в клане Чеминов. И баллада обволакивала их всех туманной пеленой, объединяя с ними за этим столом даже тех, кого уже не было на белом свете, объединяя в чем-то вневременном и внеземном.
Дойдя до середины песни, он почувствовал, что в груди не осталось воздуха, как в сдутых мехах волынки. «Что-то мне плоховато», – сказал он под конец.
Он знал: его слова омрачат праздник, как если бы кто-нибудь дернул за скатерть и разбил сервиз из Саргаделоса, который Пилар получила в приданое и берегла как зеницу ока.
– Думаю, лучше будет, если я пойду прилягу.
Больше он ничего не смог выговорить. Во рту у него пересохло, и он решил, что виной тому остывший и слишком крепкий кофе. Что-то – какая-то чужая тоска сдавливала ему грудь, и ребра щипцами впивались в легкие. И еще: в голове у него с мучительным, нестерпимым зудением метался пчелиный рой.
Пепе сразу все понял. Его добрый сын, его Йе-Йе с сединой в жестких кудрях. Он начал перебирать струны гитары и запел одну из своих любимых – «Don't let me down!» [2] – на очень забавной смеси галисийского с английским и завладел вниманием самых молодых. Только Пилар, неусыпный часовой, стояла в дверном проеме, держа в руках поднос со сладостями, и цепко смотрела ему в глаза.
Прежде чем опустить штору у себя в спальне, он снова глянул в окно на яблоню, на этот цветущий магнит. Потом взгляд его метнулся к соседскому саду, саду Гадона. Как и обычно, рассмотреть можно было только самую малую часть неведомого и всегда затененного мира, скрытого густой изгородью из лавра и мирта. Было только одно место, где зеленая стена прерывалась узкой щелью, – в той стороне бузина, все еще продолжая зимовье, оставалась безлистой. Наверное, она была погружена в созерцание своей белой сердцевины. Через эту щель Чемин мог различить остовы заброшенных ульев.