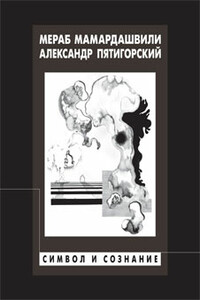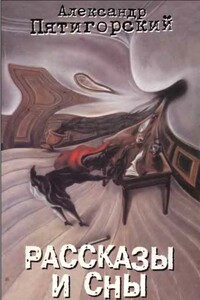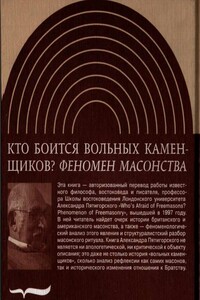Вспомнишь странного человека | страница 8
Он явно устал. «Вадим Сергеевич, – решился я, – в 21-м стал страдать от отсутствия сигар, не правда ли?» «Извините меня, коллеги, – он вытянулся на постели. – В сигарах, насколько мне известно, у него никогда не было недостатка. Тогда он их регулярно получал от Левенталя, из Риги. О, Левенталь был полный дурак, связался с этим бандитом Петерсом. Да нет, не с Петерсом, а с Данишевским. Ну тот-то был дурак патологический. Инстинкт самосохранения всегда заменял в Вадиме Сергеевиче все прочие инстинкты. Когда Чека пришли брать Кузьму Сакеловича, то, говорят, в тот день Вадим Сергеевич к нему с дачи приехал. Сидел, пил чай. Потом вдруг встает и говорит Кузьме, что надо ему срочно к Мнушкину сходить постричься, прическу сделать. Возвращается и – здрасьте. Дверь опломбирована. Ни Кузьмы, ни саквояжика Вадима Сергеевича с дюжиной гаванских регалий. Тогда он на извозчике через всю Москву – на Рогожскую, к Соломону Минцу, который контрабанду держал. Доехал, а на двери-то у Минца тоже – печать и пломба. Так он, коллеги, оттуда – на Селезневку, к Андрею Андреевичу Горшунову; они еще студентами вместе в винт играли в арбатской компании Сергея Васильевича, когда тот в Большом дирижировал. Взял у Горшунова полдюжины сигар, от него к нам явился ужинать, а к себе на дачу в тот вечер не вернулся. Сказал, что на свою опломбированную дверь он и завтра наглядеться успеет. Там у него, говорили, сто коробок сигар лежали на чердаке в мокрых опилках, чтоб не пересыхали».
Сейчас, вспоминая об этом, я слышу несхваченную мною тогда интонацию. Голос вечного победителя в трехкопеечных схватках с жизнью, чемпиона кухонных перебранок, гения памяти на тривиальности чужих существований. «Жалкий субъект, – прошептал мне в ухо Шлепянов, – но он знает схему своей жизни». А что остается мне, жалкому наблюдателю чужой схемы, не заметившему, как потерял свою? Но хватит, хватит! Пора кончать с кузеном, его дядей и всем этим. Итак, последний вопрос: мог ли Вадим Сергеевич в то именно время, осенью 1921-го, уехать, или было уже поздно, непоправимо поздно?
«Я думаю, что мог, – убежденно сказал кузен Кирилл. – Как – не знаю. Он мог, но не хотел. Всегда делал, как ему лучше. К концу 22-го не осталось почти никого из связанных с ним людей в Москве. Последними, уже в ноябре, взяли Горшунова и Багратова. Мы тогда почти не видели Вадима Сергеевича у себя. Папа все повторял, что с ним исчез сигарный дух из нашей квартиры. И вот наступило роковое время для нашей семьи. В январе 24-го стал умирать Владимир Ильич Беккер, сводный папин брат, который с 1914-го фактически всех нас содержал. Ранний удар – последствие наследственного сифилиса. Тогда впервые за чуть ли не два года появился Вадим Сергеевич со своим доктором, Вольдемаром Ловиным, которого считал чуть ли не за гения. Стужа стояла свирепая. Отапливаться почти нечем. Они явились с мороза, как из бани, румяные, нарядные, тьфу! Ну что он сказал, гений этот? Люэс, говорит, в исходной фазе, и ни черт, ни Бог ему не помогут. Это мы с папой и без него знали. И еще, словно в издевку: даю, говорит, ему два дня. Потом на часы взглянул и добавил: и девять часов. Так точно оно и случилось. Дядю Володю хоронили на Ваганьковском, и Ловин ему в гроб положил свою фрачную перчатку лайковую».