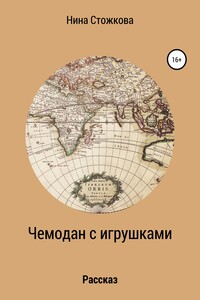Вспомнишь странного человека | страница 35
Персонажи второй части в своем большинстве по необходимости – абстрактны, и оттого, по необходимости же, и мертвы. Мертвы, как гофмановские куклы, как «Балаганчик» Поэта, как «Синяя Птица» Метерлинка и Константина Сергеевича. Откуда пришло их решение быть мертвыми – так просто не узнаешь. Да и как узнать, когда непреодолима моя отделенность от них, даже от тех немногих, кто тогда не успел омертветь, по молодости, что ли. Так, одна из центральных фигур этой части, Елбановский, с которым я провел много часов, с которым не только говорил, но и пил, все равно отрезан от моего чувства жизни там, в России, ибо там его не было с 1919-го, так же как и от моего нынешнего чувства жизни здесь, в Англии, ибо он уже и здесь давно в прошлом.
Британская цивилизация веками вырабатывала свое отношение к прошлому, непереводимое в отношение русских к их прошлому. В Англии довлеет абсолют исторического. В России сегодняшняя ситуация всегда перекрывает историю. Отсюда, например, невозможность в Англии предательства как темы. Если очень старый британец, вспоминая школьного товарища по Итону или Мальборо, говорит «О, Джордж был такой хороший парень», то это значит, что он и есть хороший парень, даже если за прошедшие с их последнего матча в регби 66 лет он разорил жену, ограбил фирму и продал родину. То, чем этот Джордж был, неотменимо. В России человек может идеально себя вести всю свою распроклятую жизнь, но если на сто первом году он сотворит какое-нибудь безобразие, то знакомые скажут: ну да, Сережа был ничего, вроде, ну, держался. Но было в нем за всем этим что-то, ну знаете...
Эта одержимость британцев своим прошлым не столько делает жизнь в Англии чужой для русского завсегдатая, сколько превращает его в чужого самому себе. Да, я завишу от места, и здесь, во второй части, мне ничего не остается, кроме повторения себя в другом и в других, что непривычно, а иногда и просто неприлично. Тогда фразы, абзацы, да что там – целые главы летят в корзину.
Я не был готов оставить мои бесплодные поиски даже и тогда, когда порвалась последняя нить, связывающая меня с Михаилом Ивановичем. Это – не нить истории вообще, а личной истории каждого, у кого такая история имелась. Очнувшись после второй войны, люди первой восприняли себя как факт истории, не получившей в них завершения, на которое они рассчитывали или надеялись. Затянувшаяся весна 1945-го принесла им легкую старческую эйфорию и горы грязного снега от Темзы и Сены до Вислы и Волги. Настоящего у них не было, а прошлое осталось где-то далеко за 1939-м, не то в Москве или Петербурге, не то в Берлине или Париже. Иным – как Шульгину – пришлось немало потрудиться, чтобы не сгинуть для сомнительного будущего, а иные – как Премьер – всю оставшуюся жизнь потратили, чтобы остаться в своем еще более сомнительном прошлом. Для Михаила Ивановича прошлое потеряло смысл задолго до того, как оно кончилось. Сигналы из него задерживались или вовсе не доходили.