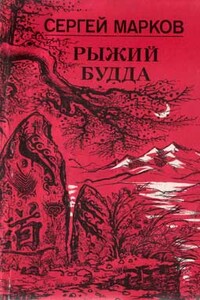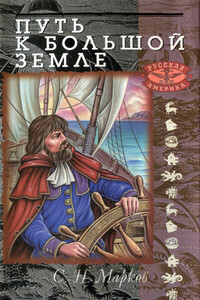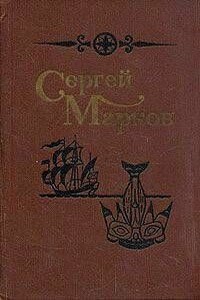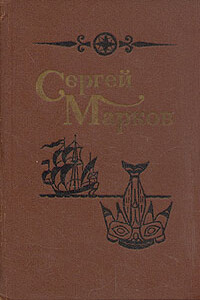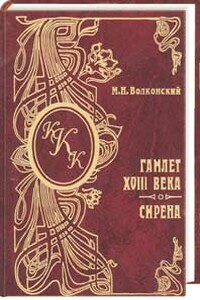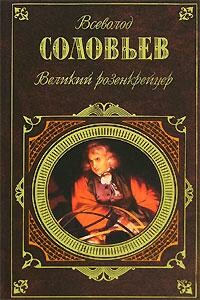Подвиг Семена Дежнева | страница 49
Дежнев не жалел слов для описания дерзостей Стадухина и происков Юрия Селиверстова. Деловые описания, отчетные данные за много лет прерывались пламенными строками о том, кому на самом деле принадлежала честь открытия Большого Каменного Носа и Анадырской корги. Муза обличений, если таковая существует, водила пером Дежнева. Он волновался так, что делал описки – Бугра называл Иваном! Излагая события какого-нибудь года, Дежнев неожиданно возвращался к прошлым, уже описанным, годам или забегал далеко вперед.
Труженик советской науки В. А. Самойлов, написавший книгу «Семен Дежнев и его время», выполнил полезное дело. Он составил указатель к «отпискам» и челобитным анадырского героя, распределив события, о которых упоминает Дежнев, в строго последовательном порядке.
Пока Дежнев трудился над своими «отписками», Юрий Селиверстов вынул козырь, о котором до времени помалкивал. Это была выданная на имя Стадухина еще три года назад «наказная память» якутского воеводы. «Память» предписывала выслать с Анадыря в Якутск людей, бывших опорой Дежнева, – Федота Ветошку, Анисима Костромина, Артемия Солдатку и Василия Бугра. Наверное, это была работа Стадухина, подсунувшего воеводе Францбекову ложный донос на анадырских казаков. Юрий наступал, требуя выполнения приказа, но Дежнев наотрез отказался выдать товарищей. Он сказал Селиверстову, что тот вор, стакнулся с вором-воеводой и «наказная память» у них воровская.
В это время очень кстати некий Данила Филиппов заявил важное «государево дело» на Селиверстова. Дежнев с понятным удовлетворением принял изветную челобитную разоблачителя и присоединил ее к бумагам, приготовленным для отсылки в Якутск. Он также перечитывал вдохновенное сочинение Федота Ветошки, в котором описывались муки Семена Моторы во время его сидения в стадухинской колоде.
Юрий Селиверстов и беглый Евсей Павлов мутили людей и отговаривали их идти в дальний путь через «Камень» с «отписками» и чертежами для Якутска. Выручил доблестный аманат Чекчой, когда-то заложник, а ныне преданный друг. Он сказал, что пойдет проводником до самой Колымы. 4 апреля 1655 года «отписки» Дежнева были отосланы с двумя казаками и Чекчоем. За труд и прилежание Чекчою было обещано русское «дельное железо», в котором он очень нуждался.
Как отправляли впервые в 1657 году дорогой груз моржовой кости в Якутск? Об этом у Дежнева ничего не сказано, а между тем известно, что Федот Ветошка и вздорный человек Евсейка Павлов появились тогда в Жиганском зимовье на Лене. Торговый человек Никита Малахов с сокрушением доносил, что «служилые люди у него пропились». Федот Ветошка и Евсейка пропили по десять пудов моржовой кости. Дело не в размерах разгула служилых, а в том, каким путем они попали в Жиганск. Известно, что с Чекчоем сухим путем пошли только два человека – Сидор Емельянов и Панфил Лаврентьев, и о доставке ими мехов и кости у Дежнева ничего не говорится. Они везли только одну почту. В ней лежала ведомость о количестве впервые добытой моржовой кости. Дорога на Колыму и Якутск сухим путем пролегла с Анадыря через «Камень», Анюй, Нижнеколымск, Алазею, Индигирку, Яну и Алдан. Жиганск, лежащий севернее Якутска, был, в свою очередь, местом досмотра судов, идущих в моря из устья Лены. В Жиганске взимались таможенные пошлины. Сухого пути в Жиганск с Яны, через «Камень», тогда и в помине не было. Это достоверно известно из челобитной казачьего десятника Михаила Колесова. В 1678 году он писал, что лет восемь назад совершил зимний поход на оленях с низовьев Яны «в Жиганы» через горный хребет... «...а преж того русские люди через тот камень нихто не бывал», – писал Михаил Колесов.