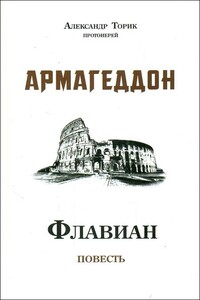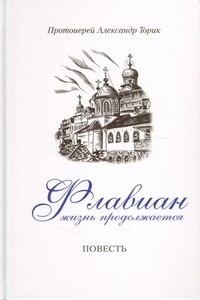Флавиан | страница 14
В городе, просыпаясь, я тоже слышал «музыку». Если только можно называть музыкой адскую кокафонию «тяжёлого рока» состоящую из: непрекращающегося даже ночью, рёва-гула машин за окном, лая несчастных из-за неестественной среды обитания, городских собак, которые давно уже стали для большинства своих городских хозяев теми самыми «ближними», которых эти хозяева возлюбили «как самих себя», а временами даже сильнее (но уж точно сильнее чем окружающих людей).
К собачьему лаю, особенно усиленному акустическим эффектом «колодцевого» расположения бльшинства многоэтажек, при-мешиваются радостная матерная ругань и крики напившейся «Клинского» и других сортов пива «продвинутой» молодёжи, грохот мусоровозов, регулярная дробь отбойного молотка со стороны хронически ремонтирующейся теплотрассы, топот соседей и грохот пере-двигаемой ими мебели над головой. «Лирическую ноту» вносят вопли психически больной соседки за стеной слева, мерзкое шипение Бори Моисеева про то, что он «не такой как все» из квартиры соседа той же «ориентации» за стеной справа (вот ведь придумали же слово «ориентация», звучит также невинно, как кружок спортивного ориентирования по компасу на пересечённой местности). Плюс завывания лифта и, особо музыкальные звуки мусоропровода, когда по нему летят, разбиваясь, бутылки и прочие звонкие предметы.
Словом, тьфу — городским жителям рассказывать ни к чему — сами знают, а сельским об этом лучше и не знать (или наоборот — знать, чтобы ещё раз подумать, прежде чем рваться в город за комфортом и деньгами).
Так вот, проснувшись на чердаке у лесника Семёна, мой мозг, привычно изготовившийся к отражению шумовой атаки города, вдруг растерялся от отсутствия необходимости влючать какие-то свои защитные механизмы, без которых психика горожанина разрушалась бы со скоростью падающего самолёта.
Звуки, которые обласкали мой слух при пробуждении, были чудной божественной симфонией, в которую вплетались: щебетание и пение разноголосых птиц, тихий шорох ленивого ветерка по крыше над моей головой, поскрипывание колодезного ворота и звон воды, льющейся в подставленное ведёрко.
Далёкий крик петуха вносил свою мажорную нотку в рассыпчатое шуршание берёзовых ветвей, стрекот кузнечиков, приглушённо-солидное гудение пушистого шмеля, ревизующего остатки пыльцы в подсохших васильках над моей головой.
И, сквозь все эти, убаюкиваще-ласкающие звучания, умильно-проникновенной мелодией, подобно робкому ручейку, протекал кроткий голосок Нины, Семёновой жены, напевающий что-то щемяще-церковное: — Царица моя преблага-а-а-ая…