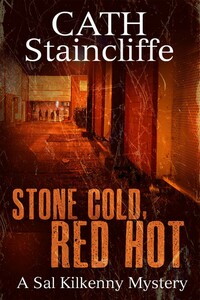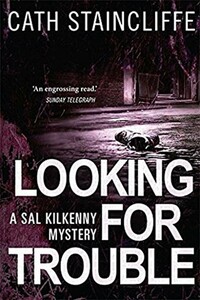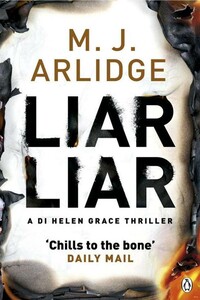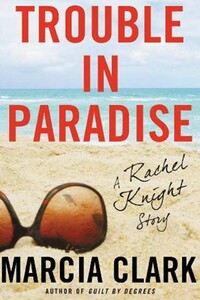Знак змеи | страница 47
Двадцать лет назад платку этому доводилось укутывать счастье. Теперь горе.
Проходя мимо зеркала, повернулась к мутному отражению, накинула платок на голову и замотала лицо, как делали крестьянские бабы - подтыкая и заворачивая уголки, не оставляя ничего, кроме собственно лица. И из зеркала на меня посмотрела древняя, убитая горем старуха. Так, наверное, выглядели моя получившая похоронку бабушка и пытавшаяся выжить в лагере Лидия Ивановна. Как выживали тогда - не постичь. Но от понимания того, что чужая бездна горя бездоннее, собственное горе меньше не становится.
Сорок лет. Старуха. В год, когда Толстой женился на Сонечке Берс, его теще было всего лишь тридцать шесть. А на фотографии такая дородная, вполне старая матрона в уродливом старческом платье и чепце. Вот и я такая, и по годам вполне могла бы стать свекровью - старой, въедливой, противной, ненавидимой.
Вырванный с корнем шнур телефона лишил эту квартиру связи с внешним миром. Приведенные Ликой строители относились к рабочей аристократии и регулярно извлекали из чистеньких синих спецовок собственные сотовые телефоны. Мне же связь с миром была больше не нужна. Что такое мир? Где он, если не в нас? Во мне мира теперь не было. Только ощущение мрака, черной тучи надо мной или во мне, некой злой силы, справиться с которой я не могу. И отойти в сторону не могу. Сижу и жду, когда меня раздавит.
Вчера в обреченных попытках заснуть смотрела в потолок с проломленной Ликой нишей. И показалось , что это не дыра, а падающая многотонная конструкция, огромный, стремительно приближающийся прямоугольник, который с каждой секундой становится все больше и больше. А я лежу и жду, когда раздавит. С упоением жду. Мгновение - и все закончится. И не будет боли. Но мгновение не наступает и не наступает. Упоение смешивается с ужасом и с этой болью, что живет отныне во мне, и длится, длится, длится...
За дни и недели, прошедшие после получения электронного письма, сообщавшего о гибели Никиты, я поняла все идиомы отчаяния. Поняла, что значит рвать на себе волосы, и как бьются головой о стенку, и как седеют на глазах, и как до безумия хочется вспороть себе живот, проткнуть сердце, чтобы нечему было болеть. Или не себе проткнуть, и не себе глаза выколоть, а кому-то неведомому, кого до безумия хочется ненавидеть. Знать бы только - кого.
Можно ненавидеть океан, который отнял у меня Никиту. Можно ненавидеть Джил, американскую жену моего погибшего мужа, чувство долга перед которой заставило Никиту возвращаться в Америку тем злополучным рейсом. Или ненавидеть себя за то, что он погиб, возвращаясь от меня. Можно ненавидеть мир, в котором разбиваются самолеты, и любимые, единственно любимые и нужные люди погибают именно в тот миг, когда ты окончательно понимаешь: жизнь без них невозможна. Можно ненавидеть всех и вся. Легче от этого не становится...