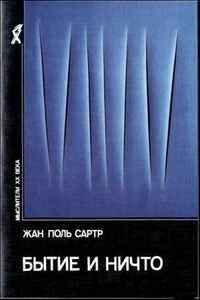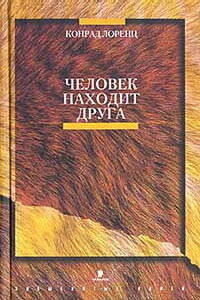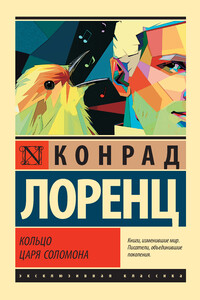Восемь смертных грехов цивилизованного человечества | страница 48
Подобная доктрина, ставшая всеохватывающей религией, доставляет своим приверженцам субъективное удовлетворение окончательным познанием, принимающим характер откровения. Все противоречащие ей факты отрицаются, игнорируются или, чаще всего, вытесняются в смысле Зигмунда Фрейда, т. е. загоняются ниже порога сознания. Вытесняющий эти факты человек оказывает ожесточённое, в высшей степени окрашенное аффектами сопротивление любой попытке вновь довести вытесненное до его сознания, и сопротивление это тем сильнее, чем большие изменения это вызвало бы в его представлениях, прежде всего в представлениях о самом себе. «Всякий раз, когда встречались между собой люди с противоположными доктринами, — говорит Филип Уайли, — с каждой стороны возникало сильнейшее отвращение, каждая сторона была убеждена, что другая погрязла в заблуждении, язычестве, неверии и варварстве, да и вообще состоит из вломившихся разбойников. После чего неизменно начиналась священная война».
Все это случалось много раз; говоря словами Гёте, «где дьявол праздник свой справляет, он ярость партий распаляет, и ужас потрясает мир»[57]. Но поистине дьявольским индоктринирование становится лишь тогда, когда огромные массы людей, целые континенты, а может быть, даже все человечество соединяется в одном и том же вредном заблуждении. Именно такая опасность угрожает нам сейчас. Когда в конце прошлого века Вильгельм Вундт предпринял первую серьёзную попытку превратить психологию в естественную науку, то, как это ни странно, вновь возникшее направление исследований ориентировалось не на биологию. Хотя открытия Дарвина были уже в то время общеизвестны, новой экспериментальной психологии остались совершенно чужды сравнительные методы и постановки вопросов, связанные с происхождением видов. Она равнялась на образец физики, где как раз в это время атомная теория торжествовала свои победы. И она приняла допущение, что поведение живых существ, как и все в материальном мире, должно состоять из отдельных неделимых элементов. При этом правильное само по себе стремление одновременно учитывать при исследовании поведения его взаимно дополнительные физиологические и психологические аспекты привело неизбежным образом к тому, что рефлекс стал рассматриваться как важнейший и даже единственный составляющий элемент всех, даже наиболее сложных нервных процессов. В то же время открытия И. П. Павлова создали впечатление, что процесс образования условных рефлексов является очевидным физиологическим коррелятом к изученным Вундтом ассоциативным процессам. Прерогатива гения — переоценивать область применимости открытого им принципа объяснения. Не приходится поэтому удивляться, что эти поистине составившие новую эпоху и столь убедительно согласные между собой открытия ввели в заблуждение не только самих первооткрывателей, но и весь научный мир, уверовавший, что на основе рефлекса и условной реакции можно объяснить «все» поведение животных и человека.