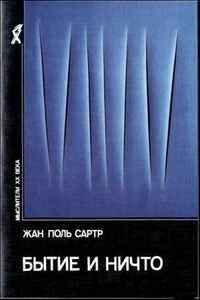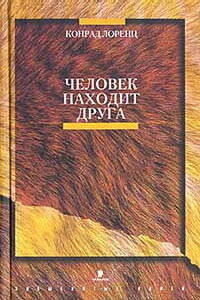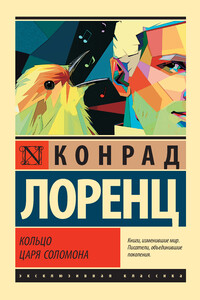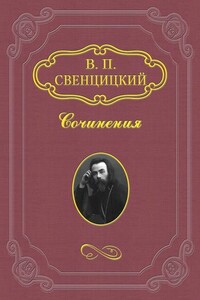Восемь смертных грехов цивилизованного человечества | страница 31
В целом домашнее животное выглядит злой карикатурой на своего хозяина. Как я указал в одной из предыдущих работ (1954), наше эстетическое восприятие отчётливо связано с телесными изменениями, регулярно выступающими в ходе одомашнивания. Типичные признаки одомашнивания, такие, как исчезновение мышц и замена их жиром, с возникающим отсюда отвислым животом, укорочение основания черепа и конечностей, обычно рассматриваются и в животных, и в человеке как уродство, в то время как противоположные признаки считаются «благородными». Совершенно аналогична наша эмоциональная оценка особенностей поведения, которые одомашнивание уничтожает или по меньшей мере ставит под угрозу: материнская любовь, самоотверженная и храбрая защита семьи и общества — инстинктивно запрограммированные нормы поведения, точно так же, как еда и спаривание, но мы определённо воспринимаем их как нечто лучшее и более благородное.
В упомянутых работах я проследил во всех подробностях тесные связи между угрозой исчезновения определённых признаков при одомашнивании и оценкой их нашим этическим и эстетическим чувством. Корреляция здесь слишком отчётлива, чтобы быть случайной, и объяснить её можно лишь допущением, что в основе наших ценностных суждений лежат встроенные механизмы, предохраняющие человечество от угрожающих ему вполне определённых явлений вырождения. Это наводит на предположение, что в основе нашего правового чувства также лежит филогенетически запрограммированный механизм, функция которого — противодействовать инфильтрации общества асоциальными представителями нашего вида.
Один синдром наследственных изменений, несомненно, проявляется аналогичным образом и по сходным причинам у человека и у его домашних животных: это примечательная комбинация ранней половой зрелости и удлинения юношеской стадии развития. Как давно уже указал Больк, человек целым рядом своих физических признаков больше напоминает юношеские формы, чем взрослых животных ближайших ему зоологических видов. Длительную задержку в юношеском состоянии обычно называют в биологии неотенией. Отмечая это явление у человека, Л. Больк (1926) особенно подчёркивает замедление человеческого онтогенеза[34], так называемую ретардацию. Тем же закономерностям, что и онтогенез тела, подчиняется и онтогенез человеческого поведения. Я сделал попытку показать (1943), что сохраняющаяся у человека до глубокой старости исследовательская любознательность, проявляющаяся в виде игры, его открытость по отношению к миру, как называет её Арнольд Гелен (1940), представляет собой удержавшийся юношеский признак.