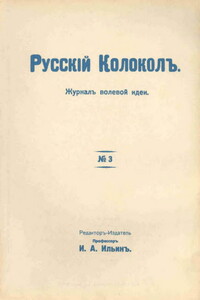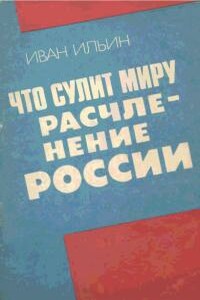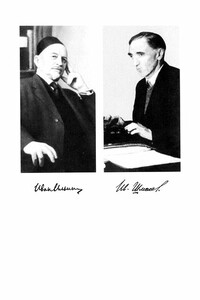Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Том 1 | страница 49
Поэтому, с кем бы ни говорили, к кому бы мы ни обращались, мы должны зорко и трезво измерять его мерилом его симпатий и намерений в отношении к единой, национальной России и не ждать от завоевателя – спасения, от расчленителя – помощи, от религиозного совратителя – сочувствия и понимания, от погубителя – благожелательства и от клеветника – правды.
Политика есть искусство узнавать и обезвреживать врага. К этому она, конечно, не сводится. Но кто к этому неспособен, тот сделает лучше, если не будет вмешиваться в политику.
Нас учит жизнь
Нам надо жить с открытыми глазами и все время учиться на опыте других народов. Каждое явление политической жизни таит в себе как бы скрытый урок, который мы должны осознать и формулировать для себя. Политике надо учиться.
1. За последний год коммунисты ввели в обиход своей политической борьбы парламентские драки. Отвратительность этих нападений и свалок (в Италии, во Франции, в Венгрии) не поддается описанию. Однако это явление не новое: в конце двадцатых годов мы наблюдали еще более зверские драки в германском рейхстаге, где нападающими были национал-социалисты.
Это означает, что тоталитаристы, как левые, так и правые, принципиально исключают из государственного строительства начало свободного воззрения и свободного сговора. Для инакомыслящих у них есть только угроза, насилие и, в конце концов, казнь. Этим они ставят себя вне лояльности, вне государственной конституции, вне закона вообще. Они сознательно и открыто идут по пути политического преступления. Есть ли основание терпеть их присутствие в законодательных собраниях, терпеть их партии в государстве, предоставлять им право голосования и право агитации в стране? Политическая свобода есть ли свобода открытого насилия и партийного нападения на государство? И еще глубже: неужели свобода безгранична и призвана разнуздывать в жизни зло? Где же предел свободы и где ее мера?
2. Современная Франция сползает в пропасть потому, что ей не удается преодолеть психологию разбитого на войне государства. Она давно освобождена от оккупации и сопричислена к победителям, а душа ее ранена, обессилена и деморализована поражением 1940 года и последующими унижениями. Французский народ потерял веру в свою армию и не решается восстановить ее; он потерял веру в авторитет своего правительства и то и дело дезавуирует его; он потерял веру в силу и продуктивность здорового хозяйственного труда и ждет причитающихся «народу-победителю» репараций и компенсаций, которых ему не с кого получить; он научился больному спекулянтски-нелегальному самоснабжению и никак не может расстаться с черным рынком и оздоровить свою валюту; он все считает свои «убытки» и не решается списать их; его политическая воля утомлена, она не строит государства, а уходит в синдикаты, партии и разные союзы, где мыслят о прибытке (заработке и власти) и пытаются вымучивать вожделенное из без того замученного государства. Всем этим пользуются коммунисты. Именно с этим психологическим скольжением в пропасть борется генерал де Голль.