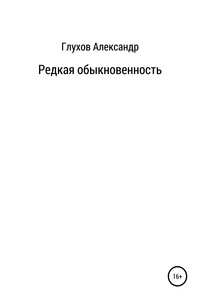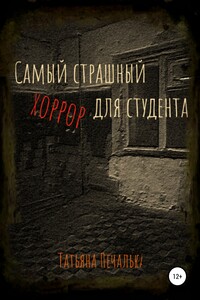Историческая личность | страница 22
Собственно говоря, на чисто внешнем уровне произошло вот что: как-то днем друг, которым обзавелись Кэрки, студент-психолог по имени Хамид, египтянин с большими темными глазами и маниакальным преклонением перед Юн-гом и Лоренсом Даррелом, зашел к ним уговорить их пойти вечером на джаз-концерт. День уже склонялся к вечеру, но Говард, который забывал – и вовсе не случайно, говорит нынешний Говард – о времени, все еще трудился в университетской библиотеке: усердно читал диссертации других людей и делал из них выписки для написания собственной. Хамид принес с собой на квартиру кое-какие фотографии Абу-Симбела и коробку рахат-лукума, но, так или эдак, Барбара легла с ним в кровать, высокую кровать с изголовьем и изножьем в комнате, выходящей на гниющий садик. Она попискивала от определенного удовольствия, хотя все свелось к торопливому перепиху под одеялом – отнюдь не исключительные минуты для обеих сторон. Но у Барбары они оставили осадок тяжкой вины; очень типично, говорит Говард теперь, что ее реакцией было подавить его, не признать, в надежде зачеркнуть весь эпизод. Однако на Хамида воздействовали его собственные неясные нравственные императивы; он настоял на том, чтобы остаться поужинать, и его цель, как выяснилось, заключалась в том, чтобы рассказать Говарду все подробности про минуты на высокой кровати раньше днем, когда, как он объяснил, они с Барбарой немножко занялись любовью. «Думаю, – говорит Говард теперь, – его целью, вполне естественной в контексте его культуры, было укрепить близость между субъектами мужского пола. Нам следует учитывать его взгляд на женщин, детерминированный его культурой». – «Господи, – говорит Барбара, – я просто ему нравилась». – «Одно другое не исключает», – говорит Говард. И Хамид с его темными глазами, закончив исповедь, ожидал с осознанием исполненного долга ответа Говарда, а Говард сидел, перемалывая челюстями ужин, в состоянии глубочайшего шока. «Первой моей мыслью была физическая расправа, – говорит он, – разумеется, не с Хамидом, а с Барбарой. Я чувствовал, что был взят сам. Этика абсолютного обладания женщиной, на которой вы женаты, заложена очень глубоко. Вернее, была». Но он сохранил спокойствие, так как был интеллектуалом, и в любом случае его учили и переучили контролировать себя и не допускать агрессивности.
И он-то знал чуточку Маркса, чуточку Фрейда и чуточку социальной истории; он знал, как количественная перемена внезапно становится качественной переменой, и как происходит овеществление, и что секс не есть просто генитальное взаимодействие, но высший всплеск либидо, психическая манифестация. Он всегда это знал, но теперь осознал. Уже некоторое время он смутно чувствовал, что его задевает и обездоливает то, как в устремленных вперед пертурбациях исторического процесса словно бы зарождается новый ритм человечества, новый образ мышления. Он ощущал это в молодых людях (тогда молодые люди были для Кэрков просто остальными людьми: сами они в двадцатипятилетнем возрасте были людьми на возрасте) и ощущал это в бунтах и протестах американских черных и в третьем мире – мире, из которого явился Хамид. Теперь ему казалось, что он выброшен на необитаемые берега исторической глупости, но в нем теплилась надежда на собственное спасение. Он сидел над сосисками, и он слушал Хамида, который был полон фаталистических объяснений. («Это то, что случилось, Говард, потому, что такому суждено было случиться»), а затем слушал Барбару, которая защищалась с совершенно новой агрессивностью. («Я личность, Говард. И была личностью все это время здесь, застрявшей в этой комнате, и он это понял, а ты никогда не понимал».) Он пронзил сосиску; он осознал историческую неизбежность. Небольшая революция разразилась. «Я поглядел через стол на эту личность, которую все это время называл женой, и внезапно ее лицо включилось, стало для меня реальным», – говорит Говард «Мое лицо? – спрашивает Барбара. – Мое?» – «Вот именно, – говорит Говард. – А когда одно лицо обретает реальность, реальность обретают все лица». – «Верно, – говорит Барбара. – И особенно – смазливые».