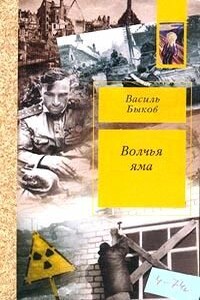Третья ракета | страница 47
— Приказ оборона был, приказ отступай не был. Стрелять надо.
— Одурел! Куда стрелять?
— Гитлер стрелять! Не знай, куда стрелять?
— Балда! — плюет Задорожный. — Я думал, ты человек, а ты чурбан с двумя глазами.
— Чего кричишь? — с нескрываемой злостью говорю я ему. — Куда пойдешь?
— Как куда? Куда все!
— А пушка?
— Что «пушка»? Пушка подбита.
— Ну и что ж? Стреляет же…
— Идиоты! — искренне возмущается Лешка. — Голова и два уха — не больше. Что же, по-вашему, сидеть тут до смерти?
В убежище выпрямляется во весь рост Кривенок. Шрам на его искривленном лице краснеет от злости.
— Заткните ему рот! — кричит он. — Заткните! Или пусть идет к чертовой матери! На все четыре стороны! Ну?
Задорожный хмурится, исподлобья окидывает нас ненавидящим взглядом и бьет кулаком о землю.
— Ну, что ж! Пропадайте, черт с вами. Командир еще этот — балда…
Это оскорбление вдруг взрывает всегда спокойного Попова. Темные глаза его загораются злым блеском, весь он подается вперед, пригнувшись, останавливается перед Лешкой:
— Почему Попов балда? Говори, почему балда? Сам балда. Нельзя пушку бросай. Попов присяга давай. Желтых не удирай. Попов не удирай. Сволочь удирай. Молчи, Лошка!
Затем он несколько успокаивается, приказывает нам заровнять на огневой воронку и повернуть орудие стволом к дороге. Согнувшись, на коленях, мы выполняем его команду. Задорожный вытирает потное лицо и больше не затевает разговора об уходе, но все время оглядывается и о чем-то упрямо думает. Попов оставляет его наблюдать возле орудия и зовет меня в укрытие.
Тут возится Кривенок. Он поднимает на Попова недовольные холодные глаза и говорит:
— Командир уже отошел. Лукьянов кончается. Перевязал немного.
— Иди, пулемет гляди, — с гримасой боли на широком лице говорит Попов. И когда тот выползает из укрытия, вздыхает: — Ах, ах, плохо!.. Очень плохо, товарищ командир! Ай-яй!..
Они лежат рядом на разостланной палатке — Желтых на спине, закинув кверху сухой щетинистый подбородок, Лукьянов с побелевшим лицом, до половины накрытый пропыленной шинелью. Оба они кажутся какими-то маленькими и странными в своей неподвижности. Я опускаюсь над ними.
— Команды?! Команды?! — горюет, присаживаясь рядом, наводчик. — На Днепре говорил погибай — жив оставался. На Мала Горка думай погибай — жив оставался. На деревня Ольховка погибай — жив оставался. Тут погибай, совсем погибай…
Глухой ко всему, старший сержант молчит. И я не могу себе представить, что никогда больше он ничего не скажет, не закричит, не обругает. Я сижу над ним, и в моей душе зарождается немой укор себе оттого, что умер он, крича на меня, что, может, злость ко мне была последним проявлением его человеческих чувств. Еще начинает казаться, что, может, это он из-за меня вынужден был подставить себя под пулю. Может, если бы он сзади не крикнул и я, вздрогнув, не уклонился, то пуля была б моей. А так вот меня она миновала, а настигла его.