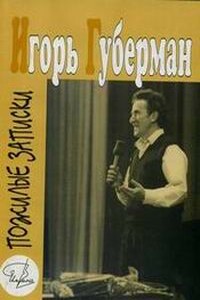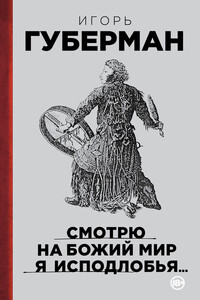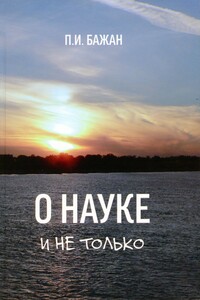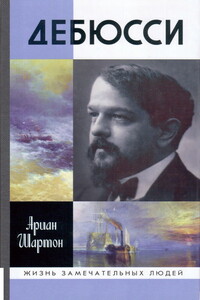Вечерний звон | страница 58
А с копией той рукописи – дивная произошла история. Она валялась где-то в куче неразобранных бумаг, а тут меня арестовали, привезли домой и дикий учинили обыск. Длился он три дня, заметно был повернут интерес ментов к архиву, письмам и бесчисленному в папках самиздату. А валялось это все богатство где попало, и внезапно отыскалась под диваном книга Евгении Гинзбург «Крутой маршрут». Но от машинописной этой копии была только вторая половина. И ко мне пристала неотвязно следовательница Никитина: куда я задевал начало? Я только плечами пожимал. Уже лет пять там эта копия валялась, никому давно не нужная – уже была такая книга в тамиздате. А Никитина не унималась: где начало? И как раз в минуты эти, вытащив из груды папок, молодой сыскарь рассматривал машинопись той части книги о Кибальчиче, что я отвез когда-то Гранину. А первая глава в той повести была мной названа – «Начало».
– Вот же оно, вот начало! – закричал сыскарь в восторге. И мою несбывшуюся книгу положили в папку с памятью о женских лагерях ГУЛАГа. И решил я, что писалось не напрасно.
Все, чего хотел я, как-то счастливо и неожиданно сбывалось. А хотел я, в частности, – большую книгу написать о том забытом начисто поэте, именем которого Морозов заслонился, когда первое свое читал стихотворение. Об Огареве мне хотелось написать. Но кто б со мною договор на эту книгу заключил? В писательском Союзе я не состоял и не совался, а писать в пространство, на авось – не мог, нуждаясь в регулярном заработке. Судьба, однако же, доброжелательно за мной следила. И едва я рукопись о психиатре Бехтереве сдал, как писательница Либединская (теща моя, Лидия Борисовна) мне предложила повесть о поэте Огареве сочинить. Для той же самой серии о пламенных революционерах. И со всегдашним опасением не справиться засел я за газету «Колокол» и подвернувшиеся книги – их было в достатке, даже слишком.
И тут я обалдел от изумления, иного слова я не подыщу – Немыслимо похожими оказались переживания людей, разделенных полутора столетиями российской истории. Среди них в изобилии ходила подпольная литература: как и в наше время, совесть и ум России говорили с ней из-за границы. Собирались тайные кружки, членов которых то и дело арестовывали и сажали. Разговоры в этих обществах почти ничем не отличались от кухонных нашего времени. Обсуждали произвол и несвободу, взяточничество и лихоимство властей предержащих, даже об отъезде за границу разговаривали так же, как евреи в середине семидесятых. В переписке Герцена и Огарева эта тема проступает непрерывно. Вот одно из писем Огарева – романтически высокий тон, но так они тогда писали почти все: