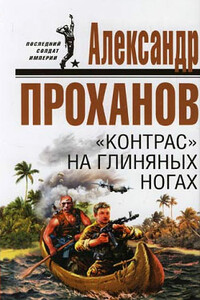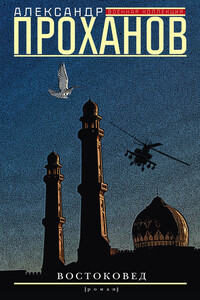Охотник за караванами | страница 26
Калмыков вглядывался в растопыренную пятерню. Железная пудра въелась в мозоли. Черная кромка земли и ружейного масла залегла под ногтями. Отчужденно, брезгливо он смотрел на свои пальцы, на их форму, на чувствительные щупальца, приспособленные для хватаний, для медленного сдавливания спускового крючка, для сжатия баранки «бэтээра». Рука казалась ему отвратительной, навязанной извне, включающей его в унизительное, вынужденное земное бытие, где он борется за существование, за хлеб, за женщин, выполняя чью-то вмененную волю.
Столь же отвратительными, вынужденными казались ему его ноги, живот, пах с непрерывной дремлющей похотью, глазницы с влажными слизистыми оболочками.
Он был весь сделан, сконструирован и задуман. Включал в себя множество приспособлений и инструментов. И в эту хватающую, скачущую, обоняющую и зрящую плоть было заключено его бессмертное «я», истинная безымянная сущность. Когда он изотрется о пески и барханы, изобьется о броню и орудия, сносит свою оболочку, израсходует бренную плоть, его «я», как слабое дуновение, вылетит на свободу, сольется с чистой живой пустотой.
Так чувствовал он свою несвободу. Воля, которой он был подчинен, была не волей генералов, не властью политиков, а чьей-то высшей недоступной властью, навязавшей ему способ жизни.
Он отстранил пятерню от глаз, внутренним усилием попытался освободиться от этой гнетущей воли. Стал проталкивать свое «я» сквозь арматуру ребер, пузыри легких, каркас костей. И вдруг почувствовал, как в области горла возникла резкая боль, стала спускаться в бронхи, проникать в сердце, твердой судорогой наполнила желудок и исчезла, оставив по себе ужас смерти.
Он не мог понять, что это было. То ли тромб оторвался и прошел по сосудам тела. То ли плоть ощутила в себе путь будущей, еще не отлитой пули. То ли частица из космоса пронзила мышцы и вылетела в мироздание.
Зазвонил телефон. Он протянул вяло руку, извлекая трубку из пластмассового гнезда.
— Слушаю… Подполковник Калмыков…
— Товарищ подполковник, вас вызывают к командиру… В центр боевого управления…
«Пора, — думал Калмыков, одеваясь, шнуруя ботинки. — Вот и приказ к выступлению».
Глава четвертая
Его детская память сохранила давнишнее детское ощущение. День первых заморозков, серый, холодный. На клумбе среди мерзлых комков торчат черные стебли, бывшие недавно душистыми астрами, табаками, геранями. Кирпичная стена выветрена, выжжена первым бесснежным морозом. Ветер проникает под тонкое пальто. В остановившихся детских зрачках изображение двора, прохожий с синеватым лицом, лужица с сизым льдом, высокое окно с бабушкиной слабо белеющей головой. И такая печаль, необъяснимая боль, чувство недолговечного. Он знает, что неизбежно расставание с серым, холодным небом, с красной, кирпичной стеной, с мамой и бабушкой, что смотрят на него из окна, не ведают о его тоске.