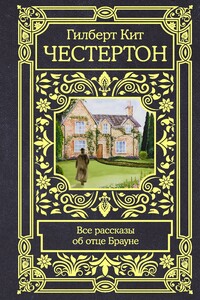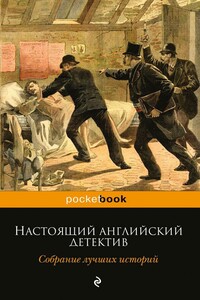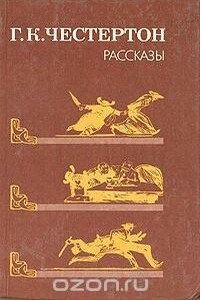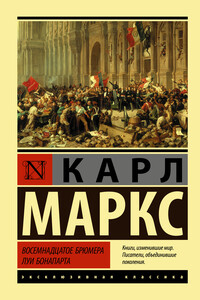Ортодоксия | страница 55
Оно разделило понятия и довело каждое до предела. Человек смог гордиться, как не гордился никогда; человеку пришлось смириться, как он никогда не смирялся. Я — человек, значит, я выше всех тварей. Но я — человек, значит, я ниже всех грешников. Смирению пессимизма — презрению к людям — пришлось уйти. Заглохли сетования Екклесиаста: «Нет у человека преимущества пред скотом» — и горькие слова Гомера о печальнейшей из тварей земных[80]. Человек оказался подобием Божьим, гуляющим в саду. Он лучше скота; печален же он потому, что он не скот, а падший Бог. Великий грек говорил, что мы ползаем по земле, как бы вцепившись в нее. Теперь мы ступаем твердо, как бы попирая землю. Человек так велик для христиан, что его величие могут выразить только сияние венцов и павлиньи перья опахал. Но человек так мал и слаб, что это выразят только пост и розга, белый снег святого Бернарда[81] и серая зола святого Доминика[82]. Когда христианин думает о себе, у него достаточно причин для самой горькой правды и самого беспощадного уничижения. Реалист или пессимист может разгуляться вволю. Пусть зовет себя дураком или даже проклятым дураком (хотя здесь есть привкус кальвинизма); только пусть не говорит, что дураки не стоят спасения. Пусть не говорит, что человек — вообще человек — ничего не стоит. Христианству и тут удалось соединить несоединимое, соединить противоположности в самом сильном, крайнем виде. Себя самого надо ценить как можно меньше, душу свою — как можно больше.
Возьмем другой пример — сложную проблему милосердия, которая кажется такой простой немилосердным идеалистам. Милосердие — парадокс, как смирение и смелость. Грубо говоря, «быть милосердным» — значит прощать непростительное и любить тех, кого очень трудно любить. Представим снова, как рассудил бы разумный язычник. Он сказал бы, вероятно, что одних простить можно, других — нельзя; что над рабом, стащившим вино, можно посмеяться, а раба, предавшего господина, нужно убить и не прощать даже мертвого. Если поступок простителен, человека можно простить, и наоборот. Это разумно, даже мудро; но это — смесь, компромисс, раствор. Где чистый ужас перед неправдой, который так прекрасен в детях? Где чистая жалость к человеку, которая так прекрасна в добрых? Христианство нашло выход и здесь. Оно взмахнуло мечом — и отсекло преступление от преступника. Преступника нужно прощать до седмижды семидесяти[83]. Преступление прощать не нужно. Раб, укравший вино, вызывал и раздражение, и снисхождение. Этого мало. Мы должны возмущаться кражей сильнее, чем прежде, и быть добрее к укравшему. Гнев и милость вырвались на волю, им есть теперь, где разгуляться. И чем больше я присматривался к христианству, тем яснее видел: оно установило порядок, но порядок этот выпустил на волю все добродетели.