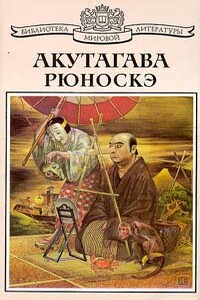Первое мая | страница 10
Того, что повыше, звали Кэррол Кэй — звучное имя, наводившее на мысль о том, что, сколько бы ни вырождался род из поколения в поколение, в жилах этого отпрыска еще должна отыскаться капля крови ею доблестных предков. Однако тощее лицо с безвольным подбородком, тусклые, водянистые глаза и торчащие скулы отнюдь не свидетельствовали о врожденной решимости или отваге.
Его товарищ был смугл и кривоног. Крысиные глазки и не раз перебитый крючковатый нос. Вызывающая манера держаться была явно напускной — оружием самозащиты, без которого не просуществуешь в том мире, где только рычат и кусают, где царят животная грубость и животный страх, — короче, в том мире, в котором он всегда жил. Звали его Гэс Роуз.
Выйдя из кафе, они побрели по Шестой авеню, с независимым видом ковыряя в зубах.
— Куда теперь? — вопросил Роуз таким тоном, словно, скажи Кэй: «А не махнуть ли нам в Полинезию?» — это ничуть бы его не удивило.
— А может, нам удастся пропустить где-нибудь стаканчик? Как ты насчет этого?
Сухой закон еще не был введен. Нерешительность, прозвучавшая в голосе Кэя, объяснялась тем, что запрещено было продавать спиртное солдатам.
Предложение встретило со стороны Роуза самый восторженный отклик.
— Я кое-что придумал, — продолжал Кэй после минутного раздумья. — У меня тут есть брат.
— Где, в Нью-Йорке?
— Ну да. Старшой. — Кэй хотел сказать, что это его старший брат. — Служит официантом в каком-то кабаке.
— Думаешь, он может поднести нам?
— Да уж, верно, может!
— Вот посмотришь — завтра же скину эту проклятую форму. И нипочем больше в нее не влезу — дудки! Раздобуду себе нормальную человеческую одежду.
— Думаешь, я не скину!
Поскольку объединенный капитал обоих приятелей едва достигал четырех долларов, планы эти следовало понимать просто как приятное словоизвержение, безобидное и утешающее. Все же это подняло, как видно, их настроение, так как они продолжали еще некоторое время в том же духе, привлекая в свидетели различных персонажей, нередко упоминаемых в Священном писании. Все это сопровождалось удовлетворенным смешком и восклицаниями вроде «Вот это да! А ты думал! Знай наших!», повторенными не раз и не два.
На протяжении многих лет духовной пищей им служила обида, выражавшаяся преимущественно в презрительных междометиях, произносимых в нос, — обида на тот общественный институт, от которого в каждый данный момент зависело их существование (это была армия, или предприятие, на котором они работали, или благотворительное учреждение), а также на то лицо, под чьим непосредственным началом они сейчас находились. Еще только сегодня утром таким институтом являлось правительство, а непосредственным начальством — капитан. Освободившись от этой двойной опеки, они пока что пребывали в неприятном состоянии неопределенности, так как не успели еще закрепоститься вновь и вследствие этого чувствовали неуверенность и раздражение — словом, были не в своей тарелке. Однако они пытались это скрыть, притворяясь, что испытывают неслыханное облегчение, сбросив ярмо армии, и заверяли друг друга, что никогда впредь не допустят, чтобы военная дисциплина угнетала их непокорные, свободолюбивые натуры. А по совести говоря, даже в тюрьме они чувствовали бы себя куда лучше, нежели в этом непривычном состоянии только что обретенной свободы.