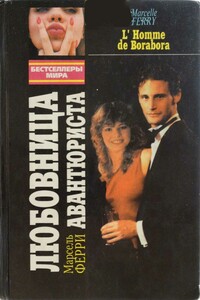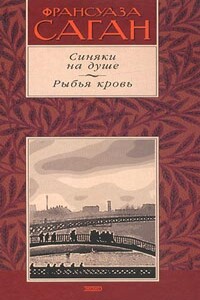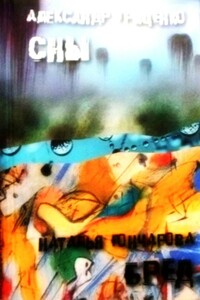Потерянный профиль | страница 33
— Вы плохо выглядите, — начала она, но я перебила ее:
— Что с Аланом?
— Не волнуйтесь, — ответила она, — он чувствует себя хорошо. Наконец-то хорошо… Он жив.
Я поспешила сесть. Мои ноги дрожали. Наверное, я очень побледнела, так как она позвонила и попросила дворецкого принести рюмку коньяку. Все-таки любопытно, — думала я теперь, когда ужасный сердечный спазм стал утихать, — любопытно, что в качестве подкрепляющего во Франции мне постоянно предлагают виски, а в Америке — коньяк. Я почувствовала такое облегчение, что охотно порассуждала бы на эту тему со свекровью, но момент был неподходящий. Я проглотила содержимое рюмки и почувствовала, как оживаю. Я в Нью-Йорке, мне хочется спать. Алан жив. А этот восьмичасовой перелет — не более чем кошмар, одна из жестоких и бессмысленных пощечин, которыми иногда награждает нас судьба, просто для собственного развлечения. Как сквозь туман, я видела напротив себя женщину с искусно наложенным гримом, слышала, как она говорит: неврастения, депрессия, злоупотребление алкоголем, злоупотребление амфитаминами, транквилизаторами — говорит, в сущности, о злоупотреблении любовью. Потом она вспомнила, что я устала с дороги, и велела проводить меня в мою комнату, где я, не раздеваясь, упала на кровать. Одно мгновение я слышала непрестанный и смутный рокот города, потом заснула. Мой партнер по пляжам, балам и мучениям выглядел страшно плохо. Двухдневная щетина покрывала ввалившиеся щеки, взгляд остекленел. Это не удивило меня, учитывая лечение, которое ему давали психиатры. В этой эмалевой, звуконепроницаемой палате с кондиционированным воздухом он выглядел инородным телом, человеком вне закона. Лечащий врач и консультант, принявшие нас, говорили о заметном улучшения, о необходимости постоянного ухода, а мне казалось, что это я сначала вдохнула в этого мужчину-ребенка человеческую, хотя иногда и причинявшую страдания, жизнь, а потом вероломно вернула его назад, в этот стерильный кошмар. Он взял меня за руку и глядел на меня — не просительно, не властно, — а со спокойным облегчением, и это было хуже всякого взрыва. Казалась, он говорил: «Видишь, я изменился. Я понял. Я снова гожусь для жизни. Ты только возьми меня». Видя Алана рядом с его слишком заботливой матерью и этим слишком рассеянным психиатром, я испытала вдруг острую жалость, и чуть было не поверила в реальность его немой просьбы. Да, это было хуже всего. Он глядел, как доверчивая побитая собака, которая хочет сказать, что наказание чересчур затянулось, что оно было достаточно убедительным, и слишком жестоко с моей стороны и дальше его оставлять в этом аду. Эта мрачная палата… Куда делся плюш, на котором он привык вытягиваться всем своим большим телом? Куда делись кашемировые шали, которыми он, засыпая, любил прикрывать глаза в дни своей грусти? Куда делась та мягкость жизни, та пушистая нежность, с которой встречали его узкие парижские улочки, маленькие пустые кабачки и молчание ночи? Нью-Йорк, не переставая, глухо гудел день и ночь, и для него, я знаю, с самого начала это было невыносимо. Но искусственное и болезненное молчание этой палаты было еще более нестерпимо: «Я здесь уже неделю», — говорил он, и это значило: «Ты представляешь себе? Ты представляешь?». «Они все очень вежливы», — говорил он, и это значило: «Ты представляешь: я во власти этих людей!». «Доктор совсем неплохой», — соглашался он, и это значило: «Как могла ты бросить меня на этого бездушного чужого человека?». На прощанье он прошептал: «Я выйду через неделю, я думаю». А я слышала молчаливый крик: «Неделю, только неделю, подожди меня всего неделю!» Я была буквально растерзана. Воспоминания о нашей счастливой жизни нахлынули на меня: наш смех, наши споры, наши сиесты на пляже, наша самозабвенность, а главное, эта неистребимая уверенность в том, что мы любим друг друга и будем вместе до глубокой старости. Забылся кошмар наших последних лет, забылась новая уверенность, приобретенная уже мною одной и состоявшая в том, что если так пойдет и дальше, мы оба погибнем. Я обещала ему прийти завтра в то же время. Парк-Авеню встретил меня отвратительным гомоном и сумятицей. Вместо того, чтобы пойти пешком и увидеть Нью-Йорк, я торопливо села в автомобиль свекрови. Она предложила выпить чаю в Сан-Реджис, где мы можем спокойно поговорить. Я согласилась. Казалось, отныне я принесена в жертву лимузинам, шоферам и чайным салонам и обязана проводить там время в обществе людей, вдвое старше меня и вдесятеро увереннее. Тем не менее, я заказала виски; свекровь, к моему удивлению, сделала то же самое. Видимо, эта больница — со специально депрессивным уклоном. На секунду я почувствовала симпатию к свекрови.