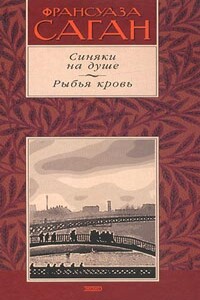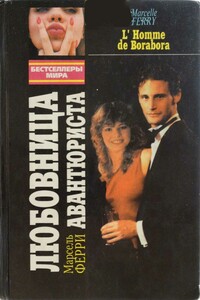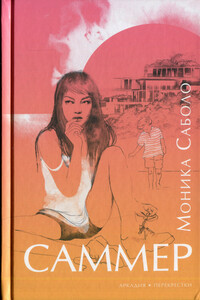Потерянный профиль | страница 15
— У вас расстроены нервы, — проницательно заметил он.
— Крайне, — ответила я. — Будешь тут нервной. У вас есть снотворное?
Он отшатнулся так резко, что я рассмеялась. С момента моего приезда я только и делала, что то смеялась, то плакала; без всякого перехода впадала то в гнев, то в изумление. Вот я и подумала о хорошей постели (очень возможно, в готическом стиле), в которую я могла бы опустить мои несчастные кости. Казалось, я смогу проспать трое суток.
— Не бойтесь, — сказала я Юлиусу, — я не собираюсь покончить с собой ни в вашем доме, ни в каком-нибудь другом месте. Просто, как вам, по-видимому, доложила ваша секретарша, последние дни были достаточно тяжелыми, и у меня нет желания об этом говорить.
При слове «секретарша» его передернуло. Он снова уселся напротив меня, положив ногу на ногу. Машинально я отметила, какие у него большие ступни.
— Помимо секретарей, чрезвычайно мне преданных, я много говорил о вас и с вашими друзьями, которые вам так же преданы. Они беспокоились о вас.
— Ну что ж, вы можете их успокоить, — произнесла я с иронией, — вот я и в безопасности. По крайней мере, на несколько дней.
Мы глядели друг на друга с вызовом, смысл которого был для меня неясен. Что делала здесь я? О чем думал он? Что он хотел знать обо мне и зачем? Моя рука начала трястись, как в «Салине», мне необходимо было лечь. Еще несколько рюмок, несколько вопросов — и я разрыдаюсь на плече у этого незнакомца, который, наверное, именно этого и дожидается.
— Будьте так добры, покажите мне мою комнату, — сказала я и встала. Я взобралась по лестнице, поддерживаемая Юлиусом и дворецким, и оказалась, как и предполагала, в комнате, обставленной в готическом стиле. Пожелав им доброй ночи, я раскрыла окно, секунду вдыхала восхитительно свежий ночной деревенский воздух, а затем бросилась в постель. По-моему, я едва успела закрыть глаза.
А на следующее утро я проснулась в прекрасном настроении: все та же мрачная комната, все та же неопределенность, а во мне маленькая флейта насвистывает веселую охотничью песенку. Музыка всегда начинала звучать во мне в самое неподходящее время. Как будто жизнь — это гигантский рояль, а я не считаю нужным нажимать на педали или, вернее, нажимаю наоборот: приглашаю симфонические увертюры моих счастливых дней и удач, а лунный свет грустных дней исполняю фортиссимо. Рассеянная, когда надо радоваться, и преисполненная радости жизни при неблагоприятных обстоятельствах, я без конца обманывала ожидания и чувства тех, кто меня любил. Это происходило не от извращенности ума. Просто временами жизнь казалась мне такой смешной с ее преходящей простотой, что кто-то во мне так и умирал от желания разбить крышку, как бывает на концертах иных пианистов. Но пианистом-то, во всяком случае, одним из них, была я. Кто из двоих, Алан или я, причинил себе большее зло? Он, наверное, лежит теперь на диване, прикрыв руками веки, съежившись и прислушиваясь лишь к стуку своего сердца. А в пятидесяти километрах от него лежу плашмя на постели я и вслушиваюсь в крик птицы, звучавший всю ночь. Но кто из нас двоих более одинок? Как ни тяжко любовное страдание, разве оно тяжелее безымянного, безответного одиночества? На мгновение я вспомнила Юлиуса, и мне стало смешно. Если этот рассчитывает поймать меня в свои сети, если как организованный деловой человек он уже отвел мне место на своей шахматной доске, ему придется плохо! Охотничья песенка звучит еще веселее. Я еще молода.