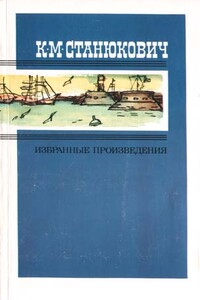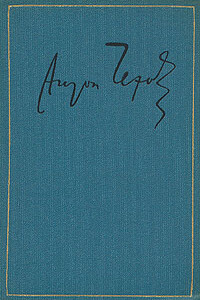Васька | страница 3
Сам Якубенков после двадцатилетней морской службы и многих плаваний давно и основательно позабыл деревню.
— Ну, ты за них мне ответишь, если что, — решительно произнес старший офицер, отпуская боцмана.
Тот, в свою очередь, позвал на бак Артюшкина и Коноплева и сказал:
— Смотри, чтобы и птицу и животную содержать чисто, во всем параде. Палуба, чтобы ни боже ни… Малейшая ежели пакость на палубе… — внушительно прибавил боцман.
— Будем стараться, Федос Иваныч! — испуганно промолвил Артюшкин, молодой, полнотелый, чернявый матрос с растерянным выражением на глуповатом лице, в страхе жмуря глаза, точно перед его зубами уже был внушительный жилистый кулак боцмана.
Коноплев ничего не сказал и только улыбался своею широкою добродушною улыбкой, словно бы выражая ею некоторую уверенность в сохранении своих зубов.
Это был неуклюжий, небольшого роста, белобрысый человек лет за тридцать, с большими серыми глазами, рыжеватыми баками и усами, рябоватый и вообще неказистый, совсем не имевший того бравого вида, каким отличаются матросы. Несмотря на то, что Коноплев служил во флоте около восьми лет, он все еще в значительной мере сохранил мужицкую складку и глядел совсем мужиком, только по какому-то недоразумению одетым в форменную матросскую рубаху. Весь он был какой-то нескладный, и все на нем сидело мешковато. Матросской выправки никакой.
И он недаром считался плохим матросом, так называемой бабой, хотя и был старательным и усердным, исполняя обязанности простой рабочей силы. Он добросовестно вместе с другими тянул снасть, ворочал пушки, греб на баркасе, наваливаясь изо всех сил на весло; но на более ответственную и опасную матросскую работу, требующую ловкости, быстроты и отваги, его не назначали.
И он был несказанно рад этому.
Выросший в глухой деревне и любивший кормилицу-землю, как только могут любить мужики, никогда не видавшие не только моря, но даже и озера, он двадцати трех лет от роду был оторван от сохи и сдан, по малому своему росту, в матросы.
И море, и эти диковинные корабли с высокими мачтами с первого же раза поразили и испугали его. Он никак не мог привыкнуть к чуждому ему морю, полному какой-то жуткой таинственности и опасности. Морская служба казалась ему божиим наказанием. Один вид марсовых, бегущих, как кошки, по вантам, крепящих паруса или берущих рифы в свежую погоду, стоя у рей [2], стремительно качающихся над волнистою водяною бездной, вчуже вселял в этом сухопутном человеке чувство невольного страха и трепета, которого побороть он не мог. Он знал, что малейшая неловкость или неосторожность, и человек сорвется с реи и размозжит себе голову о палубу или упадет в море. Видывал он такие случаи во время своей службы и только ахал, весь потрясенный. Никогда не полез бы он добровольно на мачту — бог с ней! — и по счастию, его никогда и не посылали туда.