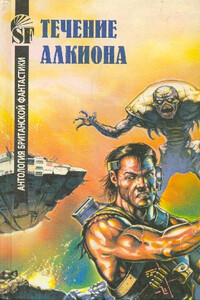Ангел боли | страница 93
Он изо всех сил боролся с этим внутренним Адом. Он сделал эту борьбу трудом всей своей жизни и привлек к ней все оружие, данное ему наукой: опий, морфий, кокаин.
Он мог победить в сражении, но никогда не выигрывал войны.
И он не мог полностью освободиться от чувства нависшей угрозы, которое выражала идея Ада. Он никогда не мог до конца избавиться от груза веры, которая была исподволь внушена ему в детстве: вера, обещавшая вечное пребывание в Аду нераскаявшимся грешникам. На уровне своего интеллекта он полностью отбросил церковные догмы, но на уровне восстающих эмоций в его сердце сохранялась тайная, ускользающая тень: тень, которая безмолвно указывала на путь вниз, в бездну.
На уровне разума Дэвид знал, что напоминание о вечном страдании было не более чем иронией. Боль ощутима лишь при наличии контраста, и вечная боль обязательно лишится смысла со временем. Но тень сомнения никогда не позволяла довериться разуму; сомнение скалилось в насмешливой ухмылке, выслушивая его рациональные суждения.
Теперь он был уверен, что все его сомнения разрешатся. Теперь, когда Ангел Боли окончательно объявила его своим и могла свободно унести в воображаемый центр её пугающего мира, сущность вопроса наконец-то станет ему ясна.
Боль не исчезла, не исчерпалась от бесконечного повторения, но она изменилась. Она изменила его или, по крайней мере, его чувство собственного «Я». Ему казалось, что он сократился до крошечного, одетого в траур существа из костей и плоти, пляшущего, как марионетка, в когтях Ангела Боли. Поднимаясь в небо, которое уже не было свинцовым, в область, где лучи солнца рассыпались водопадами света, несчастная человеческая душа Дэвида, казалось, каким-то образом перешла из его тела в бесконечно более сильное и великолепное тело Ангела, где сплавилась с её душой и зрением.
Это не уменьшило боль, так как Ангел Боли сама была болью, но это было своеобразное превращение, вернувшее боли её должное значение, как если бы мир был создан разумно и целесообразно. Его вынесло за пределы времени и пространства, далеко за пределы того комка глины, которым было его тело, и очень далеко за пределы того комка глины, которым была Земля.
Ему было позволено разделить взгляд единородного Творца, наблюдающего за своим Творением извне.
В этом видении была боль: вся боль всех миров всего Творения, и вся агония печали и беспомощности всех существ, которые когда-либо были и когда-либо появятся. Но в этом было и что-то большее, чем боль: обострение восприятия, которое восстановило фокус всех ощущений. Это был единый неделимый момент созерцания, когда Дэвид видел всё сущее, все потенциальное. Если бы в этом момент он сказал: «cogito, ergo sum», он бы имел в виду не бесконечно малую вибрацию ощущений, потрясенную затуманенным человеческим сознанием, но совершенно ясную мысль, сложную и кристально-чистую, содержащую в себе всё Творение.