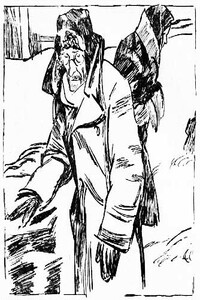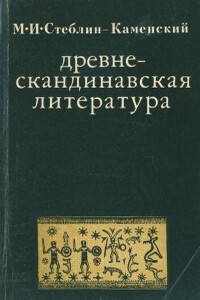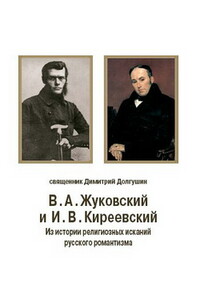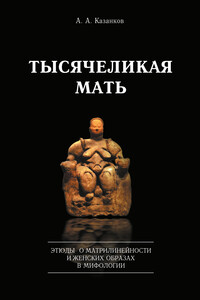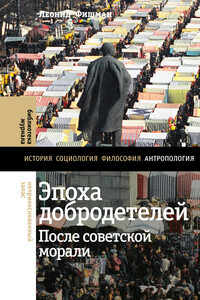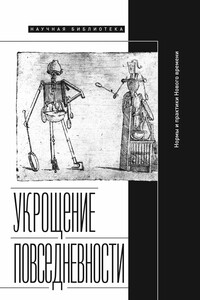Происхождение поэзии скальдов | страница 7
Осознание ценности индивидуального авторства, обусловившее в конечном счете несоизмеримо большую творческую свободу по отношению к материалу и несоизмеримо большие творческие возможности, – едва ли не важнейший этап в истории человеческой культуры. Последствия, которые это осознание повлекло за собой, настолько велики, что произведения, лежащие по ту и другую сторону от границы, отделяющей фольклор от литературы, относятся к двум принципиально различным областям творчества и являются объектами двух различных наук. Однако в генетическом плане граница эта – одна из наиболее темных областей из всего доступного литературоведу или фольклористу. Граница эта, как бы является границей в том смысле, какой вкладывался в это понятие в раннее средневековье, когда слово «граница» обозначало дремучий лес или безлюдную пустыню, разделяющие заселенные земли.
Естественно, что переход «от певца к поэту» невозможно наблюдать в нашу эпоху, когда осознание ценности индивидуального авторства и связанное с этим увеличение творческой свободы свойственно в результате культурных влияний современным носителям фольклора. С другой стороны, переход к осознанному авторству, происходящий на периферии письменной культуры, просто-напросто не является повторением пути, пройденного в свое время человечеством, подобно тому как приобщение отсталого общества к передовой культуре не влечет за собой полного повторения всех этапов культурного развития. И в том и в другом случае имеет место своего рода «короткое замыкание». Не cлучайно «граничный фольклор», т. е. фольклор, стоящий на границе с литературой, который так обильно представлен в древнескандинавской литературе (эддические песни, родовые саги) и который играет там ведущую роль, совершенно не характерен для нового времени.
Немногим больший свет на то, каким образом происходит переход «от певца к поэту», проливают и средневековые литературы. Все они попадают в поле нашего зрения уже в форме письменных литератур, сложившихся в результате прививки более высокой и чуждой культуры. Во всех них более древняя, устная традиция оказывается прерванной в результате усвоения письменности и только косвенно отраженной в памятниках позднейшей эпохи. Во всех них переход к осознанному авторству происходит, по-видимому, или в результате «короткого замыкания», т. е. в результате усвоения более древней и высокой культуры, или где-то вне поля нашего зрения, в дописьменную эпоху. Во всяком случае, принципиальная анонимность, соблюдаемая в эпической поэзии и много позднее (в творчестве жонглеров и шпильманов), – несомненно пережиточное явление уже и для средневековья. Переход к осознанному авторству, по меньшей мере в некоторых поэтических жанрах, мог иметь место значительно раньше. Об этом свидетельствует поэзия скальдов.