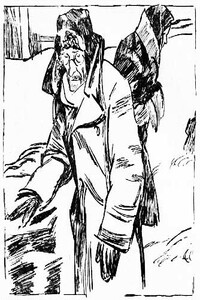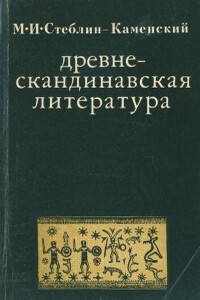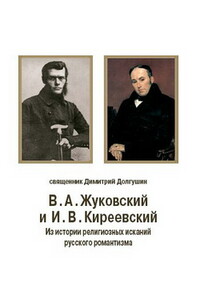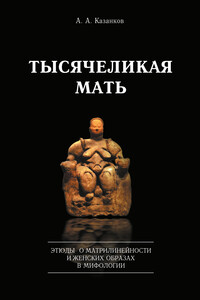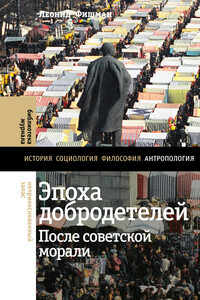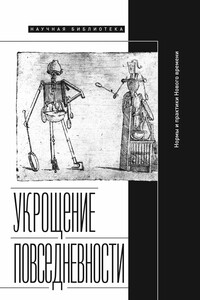Происхождение поэзии скальдов | страница 4
Но более существенным возражением против теории Муберга является то, что, хотя его работа называется «Происхождение древнескандинавской скальдической поэзии», в действительности в ней вовсе не объясняется, каким образом возникла эта поэзия, а только делается попытка географического приурочения деятельности древнейших скальдов, притом попытка неубедительная. Так, например, можно приурочить деятельность древнейших скальдов и к Восточной Скандинавии (Средняя Швеция). И Браги, и его тесть Эрп были связаны с восточно-скандинавскими конунгами. Указывалось также, что в стихах Браги встречаются свецизмы (13) и что имя его отца – Boddi – восточноскандинавское (14). Не приходится доказывать наличие исконных связей Норвегии со Швецией, – страной более богатой, в которой королевская власть была древнее, чем в Норвегии, и с королевским родом которой Харальд Хорфагр был (как явствует из Ynglingatal) генеалогически связан. Если учесть при этом отсутствие языковой преграды между Норвегией и Швецией (само слово skald в его более древнем значении встречается в двух шведских рунических надписях XI века: Торбиорн скальд и Одд скальд), то придется признать, что восточные «образцы» института королевских скальдов едва ли не вероятнее западных.
Существуют еще две теории происхождения скальдической поэзии. Одна из них выводит поэзию скальдов из придворного церемониала, другая – из магии. Обе эти теории предполагают туземное происхождение поэзии скальдов и в основе своей содержат бесспорные положения. Однако убедительного решения проблемы не дают и эти теории.
Первая из них была развита де Фрисом (15). В основе этой теории лежит то общепризнанное и бесспорное положение, что хвалебная песнь – исконный и основной скальдический жанр. Но из этого бесспорного положения де Фрис делает спорные выводы. Де Фрис утверждает, что «скальдическая хвалебная песнь была не поэзией, в собственном смысле, как мы ее себе представляем, а частью придворного церемониала». Отсюда якобы ее формальная изощренность при отсутствии поэтического содержания, ее условность и безличность. «Придворная поэзия, – утверждает де Фрис, – не терпит никаких личных затей поэта», поскольку она «элемент придворного этикета». Поэтому якобы «ценность хвалебной песни определялась не теплотой и искренностью вложенных в нее поэтом чувств… но точным соблюдением для данного жанра правил».
Недостатки этой теории очевидны. Во-первых, она констатирует факты, но не объясняет их и, во-вторых, она антиисторична.