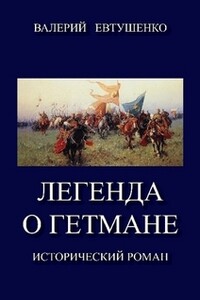Уир Гермистон | страница 71
В ту ночь она без сна ворочалась в постели, одолеваемая противоречивыми мыслями. Надвигались грозные опасности, предстояла битва, исхода которой она ждала, замирая от ревности, сострадания, страха и попеременной преданности то одной, то другой стороне. То она чувствовала себя воплощенной в своей племяннице, то в Арчи. То глазами молодой девушки она видела юношу стоящим на коленях, слабея, слушала его вкрадчивые уговоры, трепетала от его властной ласки. А в следующее мгновение уже негодовала, что столь драгоценные дары судьбы выпали на долю какой-то пигалице-девчонке, да еще из ее родни, да еще носящей ее же имя, что было уже вовсе невыносимо, «девчонке, у которой никакого понятия в голове, и совершенной чернавке». Еще через минуту она дрожала от страха, как бы мольбы ее кумира не остались без ответа, истово веруя, что он, как венец природы, безоговорочно заслуживает триумфа; и вдруг под свежим наплывом верности своему полу и своей семье начинала дрожать за Керсти и за честь Эллиотов. И опять и опять возвращалась к мыслям о себе, о том, что кончилось время для ее сказок и историй, что настала пора сказать последнее «прости» жизни, свету и любви, что ей некуда податься, перед нею лишь мрачный тупик, и туда она должна забиться и там умереть. Что же, значит, она исчерпала свою жизнь до дна? Она, такая статная, такая красивая, с сердцем, свежим и юным, как у молодой девушки, и сильным, как сама женственность? Этого не может быть. И между тем это так. Кровать вдруг сделалась ей жутче могилы, а ей предстояло еще лежать в ней долгие часы без сна, то негодуя, то трепеща, то смягчаясь, то снова воспламеняясь негодованием, покуда не настанет новый день и не возобновятся труды и заботы.
Вдруг она услыхала шаги на лестнице — его шаги; потом до нее донесся стук раскрываемого окна. Она села на кровати с яростно бьющимся сердцем. Он один у себя в комнате, и он не лег спать! Она может опять завести с ним, как прежде, упоительный ночной разговор. И с появлением этой надежды на счастье низменные материи бесследно исчезли из ее мыслей. Она поднялась — с ног до головы женщина, с ног до головы все лучшее, что есть в женщине: нежность, сострадание, ненависть к злу, верность женскому достоинству; и в то же время с ног до головы — вся слабость, присущая этому противоречивому полу, тайно лелеющая в глубине своего горячего сердца безмолвную надежду, в которой она скорее умерла бы, чем призналась даже самой себе. Она сорвала ночной чепец с головы, и прекрасные волосы рассыпались по ее плечам. Пробудилось неумирающее женское кокетство. Стоя перед зеркалом в тусклом свете ночника, она воздела к голове свои прекрасные нагие руки и пропустила пальцы сквозь золотую волну. Она всегда была высокого мнения о собственной красоте, тут скромность была несвойственна ее натуре; и теперь она стояла, молча любуясь своим отражением. «Сумасшедшая женщина!» — сказала она себе в ответ на невозникшую мысль, и, застыдившись, покраснела, как малое дитя. Торопливо подколов блестящие тяжелые пряди, торопливо набросив на плечи шаль, она с ночником в руке неслышно выскользнула за дверь. Постояла, прислушиваясь, как размеренно тикают внизу часы и как Фрэнк Иннис в столовой позвякивает графином о край стакана. Отвращение, яростное и внезапное, наполнило ее сердце. «У, пьяный мопс!» — подумала она и в следующее мгновение, осторожно постучав в дверь Арчи, услышала приглашение войти.