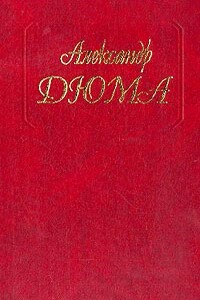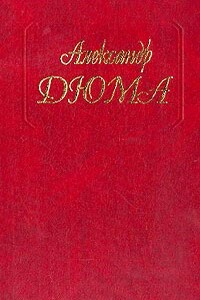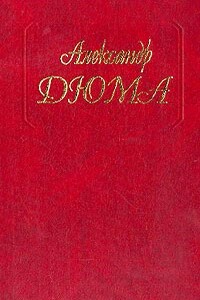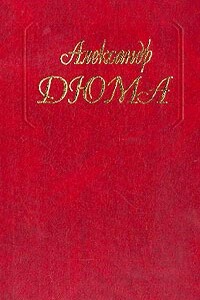Уир Гермистон | страница 43
а также его песня:
и в особенности его действительно прекрасные стихи о Камне Ткача-Богомольца заслужили ему в округе еще не исчезнувший в Шотландии титул местного барда; и хоть сам он не печатался, другие, кто печатался и пользовался славой поэтов, признавали его и ценили. Вальтер Скотт обязан Дэнди Эллиоту текстом своего «Набега Уири» из «Шотландского барда», он принимал его у себя в доме и отозвался о его дарованиях со своим всегдашним великодушием. С «Эттрикским Пастушком» они были в сердечной дружбе; встречаясь, напивались, ревели друг другу в лицо стихи, ссорились, мирились, снова ссорились — и так до поздней ночи. А помимо этой, почти официальной дани признания, Дэнди пользовался за свой талант любовью соседей и был дорогим гостем в каждом доме на много миль вокруг, отчего проистекали всякого рода соблазны, которых он скорее искал, чем бежал. Он даже сидел на скамье покаяния в церкви, буквально повторив этим удел своего любимого героя. Написанные им по этому поводу стихи к пастору Торренсу — «на посмешище всем одиноко стою», — к сожалению, чересчур вольные, чтобы приводить их здесь дальше, обежали всю округу с быстротой огненного телеграфа; их читали, перефразировали, на них ссылались, над ними хохотали повсюду от Дамфриса до Дунбара.
Этих четырех братьев прочно связывало воедино взаимное восхищение, почти поклонение, столь характерное для замкнутых семейств, отличающихся обилием талантов при недостатке культуры. Восхищались друг другом даже крайние противоположности: Хоб, в котором поэзии было не больше, чем в каминных щипцах, восхвалял стихи Дэнда; Клем, которого вопросы религии заботили не больше, чем в свое время Клейверхауса, испытывал или, во всяком случае, выражал восторг перед молитвами Гиба; а Дэнди увлеченно следил за деловыми успехами Клема. Взаимные восторги влекли за собой снисхождение к слабостям друг друга. Лэрд Хоб, Клем и Дэнд, все трое тори и горячие патриоты, стыдливо извиняли про себя революционную ересь Гиба. С другой стороны, Хоб, Клем и Гиб, ведшие жизнь строго нравственную, принимали беспутство Дэнда как некое затруднительное свойство, которым господь в неисповедимой мудрости своей счел нужным наделить бардов и которое тем самым красноречиво свидетельствует о поэтическом таланте их брата. Чтобы представить себе это простодушное семейное самодовольство, надо было послушать, с какой иронией Клем во время своих наездов из Глазго описывал дела и людей этого большого города, где он жил и орудовал. Самые разнообразные персонажи — священнослужители, городские советники, крупные коммерсанты, с которыми сводили его дела, — все как один изображались черными красками и служили лишь для выгодного оттенения достоинств семейства Эллиотов. Единственным человеком, к которому Клем питал какое-то уважение, был лорд-пробост, и его он уподоблял своему брату Хобу. «Он напоминает мне нашего лэрда, — говорил Клем. — Такой же выдающийся ум, и так же поджимает губы, когда недоволен». И Хоб в ответ словно для иллюстрации, сам того не подозревая, складывал рот в мрачную гримасу. С незадачливым проповедником из церкви Святого Еноха он разделывался в двух словах: «Будь у него хоть на мизинец таланта нашего Гиба, прихожане бы рыдали». И Гиб, честная душа, украдкой улыбался, потупив очи. Клем Эллиот был для них лазутчиком, которого они выслали к людям. И он возвратился с доброй вестью, что в мире нет никого, кто шел бы в сравнение с Четырьмя Черными Братьями, что нет такого поста, которому бы они, заняв его, не служили бы к украшению, и такого важного лица, чье место не принадлежало бы по праву скорее им, и такого дела, мирского или божественного, которое не выиграло бы от их решающего участия. Извинить их за это можно только, если иметь в виду, что они почти ничем не отличались от обыкновенных крестьян. А об их здравомыслии можно судить по тому, что это их удивительное деревенское зазнайство не выходило за стены дома и хранилось в семье, словно какая-то фамильная тайна. Мир не видел, чтобы их суровые лица искажала ухмылка самолюбования. И, однако же, об этой их черте знали. «Уж так гордятся собою, дальше некуда» — таково было мнение округи.