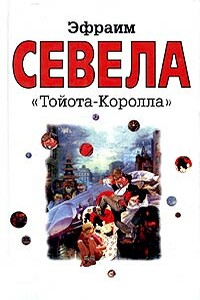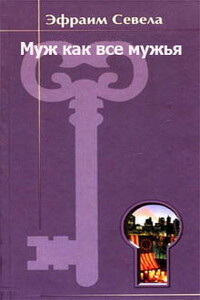Продай свою мать | страница 75
— Оркестру продолжать! Офицерам желаю культурного досуга!
Наши музыканты, как сорвавшись с цепи, приникали к инструментам. Танцы на кругу возобновлялись с новой силой.
Суетливые офицеры немедленно освобождали для коменданта столик перед эстрадой. Он садился за этот стол один. За соседний, позади, тоже очищенный от публики, усаживались его охрана и шофер Вася, прислонив автоматы к стульям. Охране выставлялся ужин без напитков. Майору никаких закусок. Лишь графинчик водки и граненый стакан.
Оркестр знал музыкальные вкусы коменданта, и с той минуты, как он усаживался за столик, менялся соответственно весь репертуар. Я со своим аккордеоном выходил вперед, к микрофону, и исполнял танцевальную мелодию, которая, по мнению коменданта, была под силу лишь виртуозу. И каждый раз это завершалось одним и тем же. Комендант пальцем подзывал к себе официанта, сам наливал из графинчика полный, до краев, стакан водки и кивком головы отправлял официанта с этим стаканом ко мне. Я должен был залпом опрокинуть стакан себе в горло под аплодисменты всего зала и, не закусив, раскланяться и вернуться на свое место. Частые посещения ресторана меценатом— комендантом грозили сделать меня заправским алкоголиком. Поначалу после этого традиционного стакана водки мне было трудно играть. Пальцы деревенели, не слушались. Но потом я привык и даже не чувствовал особых перемен в своем самочувствии после выпитого. Как определил Григорий Иванович Таратута, я понемногу становился русским человеком.
Он оставался для меня загадкой. Никогда не поймешь, шутит он или говорит всерьез. Рассказывает что-нибудь смешное, а серые глаза холодны как лед и прощупывают слушателя, словно иголками протыкают насквозь. А когда говорит о страшном, от чего мороз по коже дерет, глаза его смотрят насмешливо.
Однажды, когда мы с ним были вдвоем, без свидетелей, он придвинулся близко ко мне и спросил, лукаво усмехаясь глазами:
— Ты любишь советскую власть?
Я растерялся. Советская власть не щадила даже тех, кто открыто, на всех углах изъяснялся в любви к ней, а уж таких, какие проявляли хоть видимость недовольства ею, уничтожала беспощадно. Вопрос майора, который сам являлся этим орудием расправы, был провокационным, и я долго подыскивал слова, чтобы ответить ему убедительно и не теряя собственного достоинства. Но он не дал мне ответить.
— А за что любить-то? — насмешливо уставился он мне в глаза. — Народ живет впроголодь… всех держат в страхе… изолгались, как последние подонки… Ну, так неужели ты, умный человек, ее любишь… эту власть?