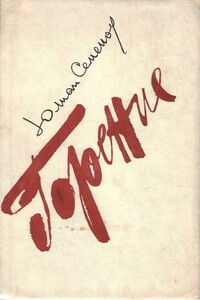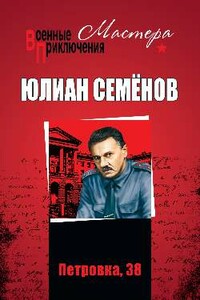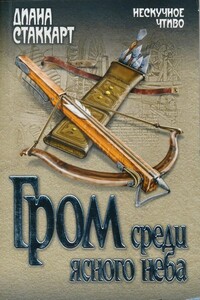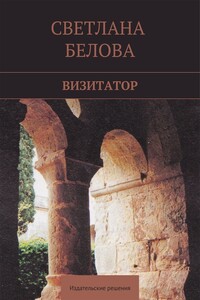Горение. Книга 1 | страница 56
— Правее тесни, тесни правее! — слышался хриплый, тихий переговор.
«Жандармы, — понял Дзержинский. — Не хотят „тревожить“ пассажиров стрельбой, мерзавцы, просто теснят народ, силой теснят, чтобы освободить путь».
— Пропустите поезд, который раз говорю! Потом соберемся кругом и все по-нашему, по-православному решим. Верно я говорю, господин офицер?
— Верно, господин управляющий, верно! Правее берите, ребята, правее! — командовал офицер.
— Господи, чего ж бьешь-та меня? За что? Я ж миром хлеба прошу, я ж в ноженьки кланяюсь от люда артельного. Ой, руку-то не верти, не верти!
Двое жандармов вырвали из толпы того, видно, кто кричал жалостливо, молил о хлебе. Его потащили мимо Дзержинского, низко опустив ему голову, заломив руки за спину так, что тело человека сделалось похожим на птичье — такое же худое, беззащитное, и руки, как крылья, — вверх.
— Господи, не вертитя так! — Парень поднял лицо свое, по которому текла кровь, столкнулся взглядом с зелеными длинными глазами Дзержинского, которые сейчас потемнели, замерли. — Барин, чего ж молчишь?! Заступися, барин, я ж миром! Подобру я, барин!
Парня затолкали в комнатенку жандармерии, и оттуда донесся длинный, страшный вопль, а потом настала тишина — такая ощутимая, что все исчезло вокруг.
— К Зубатову жалобу понесу, ироды! — зарыдал парень, и слышны были тугие удары сапог по его телу. — Найду на вас в Москве управу, у Зубатова найду!
… Начальник Московской охранки полковник Сергей Васильевич Зубатов карьеру сделал для российского политического сыска в определенной мере по той поре типическую. Сначала он ушел с головой в революцию, близок был к народовольческому террору, трибун был и тактик. Но чем дальше, тем беспросветнее ему становилось и муторнее, потому что, обладая умом сноровистым, ловкостью воистину отчаянной и при этом аналитической жилкой в неторопливом — поначалу, перед решением — мышлении, Зубатов все явственнее отдавал себе отчет в том, что путь народовольческого «передела» — это путь в никуда, в утопию, которая кровава и безнадежна. Некий незримый водораздел, положенный капиталистической Европой, жившей по законам «рацио», отбрасывал Россию во тьму, азиатчину, дикость привычно, столетиями угнетаемых, которые сразу же отдавали палачам тех, кто приходил к ним со словом правды. Дворянство, близкое к трону, ездившее в Париж приобщаться, не хотело, не могло и не умело пустить дух европейского «рацио» в Россию, полагая, что это разложит устои, раскачает в конечном счете то основание, на котором покоилась Империя триста лет, да и народ «рацио» не примет: иным кроем кроены, иными традициями мужик-кормилец жил, жив и жить будет.