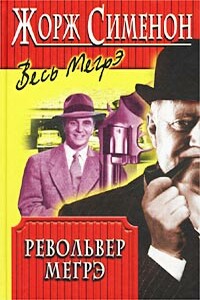Три комнаты на Манхэттене | страница 45
Ему пришла в голову мысль, что, когда он вернется домой, там не будет Кэй. Он пожал плечами и увидел себя пожимающим плечами, поскольку, придя на несколько минут раньше, остановился перед витриной торговца картинами.
Почему же он мрачнел по мере того, как удалялся от Гринич-Виледжа? Он вошел в здание, поднялся на двенадцатый этаж, побрел по хорошо известному коридору. И наконец добрался до просторного, очень светлого зала, где работали несколько десятков сотрудников – мужчин и женщин, а в отдельном отсеке находился заведующий отделом радиопьес, рыжеволосый, со следами оспы на лице.
Его фамилия была Гурвич. Комб вдруг вспомнил, что он выходец из Венгрии, а теперь все, что хотя бы отдаленно касалось Кэй, очень интересовало его.
– Я ждал вчера вашего звонка. Но это не имеет значения. Садитесь. Ваша передача в среду. Кстати, я жду вашего друга Ложье, он должен прийти с минуты на минуту. Он, вероятно, уже где-то здесь. Вполне возможно, что мы в ближайшее время будем передавать его последнюю пьесу.
Кэй выбрала и помогла надеть ему костюм, завязать галстук. И это было совсем недавно, почти полчаса тому назад; ему казалось, что он прожил с ней одно из таких незабываемых мгновений, которые связывают навсегда два существа, и вот теперь это кажется уже совсем далеким, почти нереальным.
Пока его собеседник говорил по телефону, он обвел взглядом просторное белое помещение. Взгляд остановился только на черном круге настольных часов. Он пытался восстановить в памяти лицо Кэй, но не смог и сердился за это на нее. Ему более или менее удавалось представить ее на улице, увидеть вновь такой, какой она появилась перед ним в первый раз – в черной шляпке, надвинутой на лоб, с губной помадой на сигарете и с мехом на плечах, чуть откинутым назад. Он был раздражен или, скорее, обеспокоен оттого, что никакой другой ее образ не возникал в его сознании.
Его нетерпение и нервозность стали настолько заметны, что Гурвич спросил его, не отнимая трубки от уха:
– Вы спешите? Не будете ждать Ложье?
Он, конечно же, дождется. Но будто что-то в нем щелкнуло, и стала рассеиваться вся безмятежность. Он не мог точно сказать, когда, в какой момент вдруг исчезло радостное, светлое ощущение жизни, до того для него необычное, что было даже страшно выходить с ним на улицу.
И вот теперь, заглушая в себе стыд, он с напускным безразличием обратился к сидящему перед ним человеку, который кончил наконец говорить: