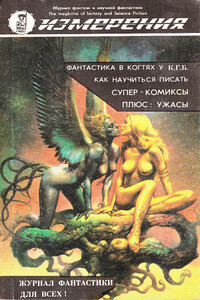Тот самый ГИТИС | страница 52
Дома на довольно стареньком проигрывателе слушал классическую музыку. Всегда был обложен стопкой литературных журналов. Самых разных – правых, левых. «Новый мир», «Наш современник», «Юность»… Читал все. Фамилию Астафьева назвал мне, когда того знали только местные критики сибирские. В 60-70-е годы он угадывал литературу. Разве что шоу-бизнес был ему чужд. Не помню, чтобы он когда-нибудь говорил об новой эстраде. Эстраду своего времени, я думаю, он знал хорошо. Но Аллу Пугачеву, наверное, нет.
Марков начинал как филолог. Крупнейшие структуралисты Богатырев и ставший американским ученым Роман Якобсон в свое время звали его в Прагу. Вячеслава Иванова никогда не называл Вячеслав Иванов. Просто Вячеслав. Потому что с ним общался в ТЕО. Иванов был очень не доволен, что Марков увлекся театром, а не филологией. Помнил Бердяева. Вообще, Марков был гораздо более начитан, чем это может показаться. Ведь он не стал ученым кабинетного типа, у которого на каждый абзац шестьдесят сносок. Шестьдесят, может быть, в конце жизни он, не мог выдать, но двадцать-тридцать – точно!
Он не был добреньким. Но по отношению к студентам был предельно доброжелательным. Вот почему его любили все курсы. Вы сами знаете, что к педагогам относятся очень по-разному. Причем иногда педагог может любить студента больше, чем студент его. А бывает и наоборот. И все меняется: сейчас замечательные отношения, потом похуже, потом снова получше… Крупнее Маркова фигуры не было. Его уважали и любили. Поэтому смерть его была драмой для студентов не в меньшей мере, чем для преподавателей.
– Кто еще из педагогов на вас повлиял?
– Я уже упоминал фамилию Александра Сергеевича Поля, который преподавал зарубежную литературу. Хотя я с первого курса точно знал, что буду заниматься отечественным театром. При том, что вырос в семье переводчика, в доме звучало все от Рабле и Сервантеса до Пруста. Большинство людей, приходивших в гости или по делам, как правило, были связаны с зарубежной литературой.
– И Бояджиев вас не увлек?
– Нет. Помню, как-то я пришел к нему домой проставить оценку в зачетную книжку, и он меня спросил: «А не хотели бы Вы подумать об аспирантуре?» Я с наглостью и откровенностью сказал: «Григорий Нерсесович, я так люблю отечественный театр, что хочу заниматься только им». Хотя я страшно увлекался и обожал Шекспира. Читал Марло и двухтомник «Современники Шекспира» до того, как поступил в ГИТИС. Шеститомник Лопе де Вега – отец мой был редактором. Двухтомник Кальдерона. Сейчас все время режиссеров уговариваю: «Братцы, откройте Лопе де Вега. Ну, хотя бы, третий или четвертый том. Посмотрите. Не сводится он к „Звезде Севильи“ и „Учителю танцев“! Это стремление к широте знаний, которое обеспечивает мне взгляд вширь, вглубь и так далее. Но Мочалов для меня все равно интереснее, чем Кин, Лермонтов интереснее, чем Шелли, ну и далее везде со всеми остановками. А когда я с середины третьего курса увлекся филологией и русской мыслью, стало понятно, что я занимаюсь именно тем, чем нужно. Однако Александр Сергеевич Поль меня не просто привлек к зарубежной литературе, а показал, какой живой и свободной может быть устная речь педагога. С ним у меня связана, наверное, единственная в жизни мистическая история. Я, вообще, совершенно не мистик, но вот тут... что было, то было. На первом курсе я не очень удачно сдал зачет, и он мне сказал: „Вы знаете, я вам поставлю зачет, но ответили вы недостойно самого себя. Поэтому на следующий год на экзамене вам придется отыграться“. После мне приснился сон, что Поль умер и я говорю речь на его похоронах. Проходит лето. В Ялте я случайно покупаю „Советскую Культуру“ и читаю, что скончался Александр Сергеевич Поль. Я, конечно, ахнул. Его похоронили, а первого или второго сентября нам говорят, что поскольку похороны были, когда никого в Москве не было, то панихида будет сейчас. Мы едем, кажется, на Ваганьково. Вдруг ко мне подходит лаборант факультета и говорит, что нужно, чтобы сказал слово кто-то от студентов и решили, что говорить буду я. Саша, вы можете себе представить, что я испытал в тот момент!