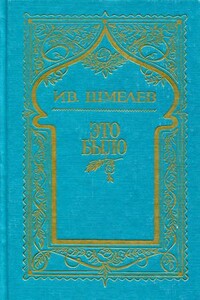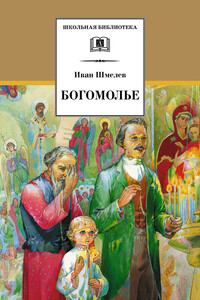Старый Валаам | страница 16
Мебель гостиной – старинная, красного дерева, тяжелая: стол овальный и опять – высокие часы с курантами: помнить надо – «время пению, молитве час». Над столом картина Шишкина, писанная художником в море, «за две версты». Святые острова, дремучие леса на скалах и белый монастырь, благословляющий крестами; скит Никольский, скит Всех Святых, и над водами – чайка.
– Знаменитый Шишкин это, – говорит о. игумен, – во славу Божию здесь трудился. Художники нас не забывают, любят природу Божию. У нас и свои художники, весь собор сами расписали. У нас и школа живописная. Все посмотрите, и святыни, и мастерские наши. Из Москвы вы... А Донской монастырь вы знаете?
Господи, Донской!.. Там похоронен мой отец... и Горкин. О. игумен учился там:
– В духовном училище там учился, Москва – родная мне. И грустно улыбнулся, вспомнил.
– Благословляю вас, посмотрите все. И на лошадке можно, куда подальше. И на лодке, и на нашем пароходике, по скитам.
Мы получаем благословение – «на все благое». Это здесь очень важно. Здесь без благословения ни шагу, строго.
Перед нами – собор Преображения. Господня, уходит в небо высокой колокольней. Тридцать и три сажени! Синие купола горят. Гранитные колонны в окнах и у крыльца. Гранитные кресты на камне. Все опоясано гранитом. Строено на века. И все построили монахи, сами. Не верится.
– Все сами?! – спрашиваю проводника-монаха.
– Работа братии, – ответствует он смиренно. И я вспоминаю, как часто говорилось: «монахи – тунеядцы»! Да как же так? «Все, до последнего гвоздочка, сами», «Бог помог», «для Господа трудились». И все без похвальбы, смиренно. Чудеса!
Входим в законченный нижний храм, – здесь престол преп. Сергия и Германа. Колонны, своды, стены – в узорах, в херувимах. На голубоватом своде – звезды. И это са-ми? Все? Работа братии. И этот иконостас, резной, розово-голубой и золотистый, – сами? Господь помог.
– А иконы..?
– Работа братии.
– А... кресты на куполах?..
–Здесь лили. Из братии трудились...– смиренно ответствует монах, перебирая четки.
Поют старинным, «знаменитым» распевом – валаамским. Слышится мне народное, простое, трудовое, – и грусть, и вскрики. И голоса – простые, простонародные. Слышится мне родное: певали так артелью, у нас, бывало... Мне нравится.
В колоннах, справа, – серебряная рака, «спуд». Мощи Преподобных, Сергия и Германа, – под спудом. Монах поясняет скупо: лет семьсот тому, из Нова-Города вернулись Преподобные «на родину»; от шведов увозили мощи, дабы не надругались «Лютеры», и вот, «глубоко», под спудом почивают. Мы преклоняемся, прикладываемся к ликам на серебре. Поют молебен. Недалеко от раки – схимонах. Укрылся схимой, лица не видно. Я с содроганием смотрю на схиму: шито белым по черному – крестики, слова, – молитва? – череп, кости... Чтобы о смерти помнить? Вспоминаю: «человек, яко трава дние его...» Не понимаю, но... узнаю? Заговорить бы..? Но схимонах недвижен, весь – вином. Схимонахи... кто же? Я, студент, этого не знаю. Для чего – не знаю. Или – знаю? Как будто рассказывал мне Горкин..? Старый плотник – знал. А я не знаю.