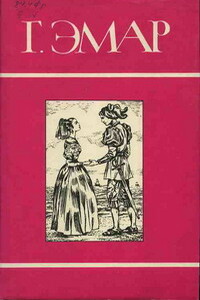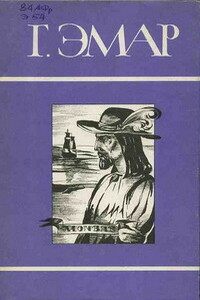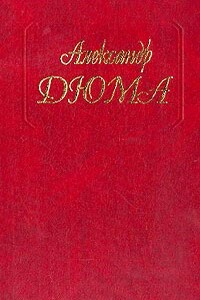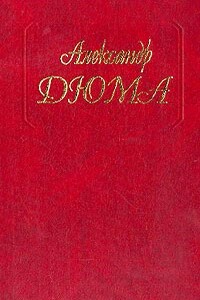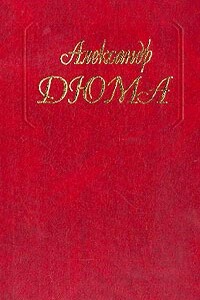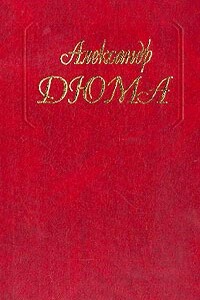Золотая лихорадка | страница 38
Охотник нахмурил лоб и сдвинул брови.
— Говори, — сказал он затем, — я тебя слушаю. Что же касается моей клятвы, то на этот счет можешь быть совершенно спокоен. Я сдержу ее, когда настанет время.
— Однако солнце уже восходит, — заметил Луи с грустной улыбкой, — и прежде, чем исполнить твое желание, я должен заняться скотиной, — этого ведь нельзя откладывать.
— Ты совершенно прав, я буду помогать тебе.
В эти минуты мрак рассеялся, точно по мановению волшебного жезла, лучезарное солнце показалось на горизонте, и тысяча всевозможных пород птиц, скрывавшихся в зеленой листве, приветствовали появление дневного светила пением веселого утреннего гимна.
Дон Корнелио и Курумилла стряхнули с себя оцепенение сна и открыли глаза.
Индейский вождь поднялся и своим обычным, медленным и величественным шагом направился к Валентину.
— Брат, — сказал последний, беря за руку араукана, — я не один тебя искал, со мной был еще друг. Сердце и рука его всегда были к моим услугам, он всегда являлся ко мне в минуту радости и в минуту горя.
Дон Луи несколько мгновений с удивлением смотрел на индейца, на которого ему указывал охотник и который неподвижно, как мраморное изваяние, стоял перед ним; затем мало-помалу лицо его прояснилось и он, протягивая руку индейцу, сказал ему взволнованным голосом:
— Курумилла, брат мой!
Такое доказательство дружбы после стольких лет разлуки, такое искреннее волнение со стороны человека, которому Курумилла некогда столько раз доказывал свою преданность, моментально растопило лед, сковывавший сердце индейца. Он побледнел — если только это выражение применимо к краснокожим, лица которых в минуту сильного волнения принимают землистый оттенок — и судорога сотрясла все тело.
— О! Брат мой Луи! — вскричал он, будучи не в силах сдержать волновавшие его чувства.
Рыдание, похожее на рычание льва, вырвалось из его груди, и вождь, стыдясь, что таким образом обнаружил слабость, быстро отвернулся и спрятал лицо в складках плаща.
Подобно всем первобытным и энергичным натурам, человек этот, которого не могли сломить никакие бедствия, был разбит, как слабое дитя, радостью при виде дона Луи. Валентин любил его больше, чем брата, и его потерю так долго оплакивал.
— Ты не покинешь меня больше, брат мой? — спросил Луи с беспокойством.
— Нет, теперь ничто нас уже не разлучит.
— Спасибо, — просто сказал граф.
— Ну, а теперь довольно об этом, — заговорил Валентин веселым тоном, желая дать разговору другое направление. — Займемся лучше скотиной.