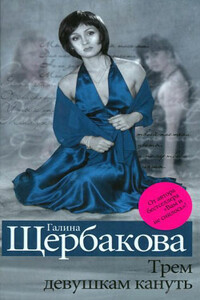Актриса и милиционер | страница 6
— Ванька! — засмеялась Нора. — Так тебя ж надо выдвигать в Думу.
— Я чистоплотный, — сказал Еремин. — А ты, Лаубе, теряешь свой знак качества. Ты, Норка, читаешь советские детективы.
— Нет, нет и нет… Неграмотная я…
Но всю дорогу из театра она продолжала этот разговор с Ереминым, а когда пришла, то, несмотря на ночь, позвонила в милицию, что хочет завтра видеть участкового по поводу… Тут она запуталась в определении, замекала и положила трубку.
Ночью ей снился сон. Она меняется квартирой с Люсей, и та требует приплату, что с ее второго этажа лучше виден упавший. «Смотри! Смотри!» Люся тащит ее на свой балкон, и Нора хорошо видит затылок мужчины, заросший густо, по-женски. «Бомжи не ходят в парикмахерскую», — думает она. «Отсюда и вши, — читает ее мысли Люся. — Но до второго этажа они не дойдут. У вшей слабые конечности».
На этом она проснулась. «Затылок, — подумала. — Я его почему-то знаю». «Дура, — ответила себе же. — Такую кудлатую голову носит, например, их прима. Вечные неприятности с париком. Они ей малы, и прима по-крестьянски натягивает парик на уши. И делается похожа на мороженщицу у театра. Та тоже тянет на уши шапку из песцовых хвостов… А потом делает этот странный дерг бедрами — туда-сюда… И вороватый взгляд во все стороны — видели? Не видели? Что я крутанулась вокруг оси?» Нора не раз приспосабливала жесты мороженщицы к своим ролям. Очень годилось, очень… Пластика времени… Подергивание и растягивание. Загнанный в неудобные одежки совок. Человек не в своем размере. Совершенство уродства. Господи, сколько про это думалось! «Эта Лаубе свихнется мозгами!»
Так вот… Затылок… «Я знаю этот затылок в лицо», — подумала она снова.
18 ОКТЯБРЯ
Милиционер пришел сам. Надо же! Именно накануне у них в участке опробовали телефон-определитель, он срабатывал через два раза на третий, но ее звонок был как раз третьим. Участковый пришел в их подъезд по вызову: семейная драка в квартире шестнадцать. Звонили из семнадцатой — у них от шума вырубился свет. Участкового звали Витей — нет, конечно, он был Виктор Иванович Кравченко, но на самом деле все-таки Витя, даже, скорей, Витек. Он приехал из Ярославской деревни, где работал механиком. Но тут механизмы кончились, председатель все пустил по миру, а то, что осталось, «уже не подлежало ремонту». Эти слова Витя прочитал в акте по списанию механизмов, и они вошли в него одним словом: «неподлежалоремонту». Теперь Витек работал в милиции, жил в общежитии и не переставал удивляться разности жизней там — в деревне и тут — в столице. Конечно, он бывал в Москве, и не раз, в мавзолее бывал, на ВДНХ, ездил туда-сюда на водном трамвае, в метро познакомился с девушкой из Белоруссии, тоже деревенской, они стали писать друг другу письма, а потом почта «накрылась медным тазом». Жаль девушку. Такая беленькая-беленькая. Ресницы такие редкие-редкие, но длинные-длинные. Существующие как бы сами по себе, они очень волновали Витю. Он старался положить этому конец, так как не любил, когда в душе что-то тянет. И он даже написал ей, что «нашу дружбу нельзя считать действительной, ибо никак»… Последние два слова повергли его в такое сердцебиение, что письмо пришлось порвать, но «ибоникак» (тоже пишется и звучит вместе) почему-то в нем осело на дно и стало там (где? где осело?) укореняться.