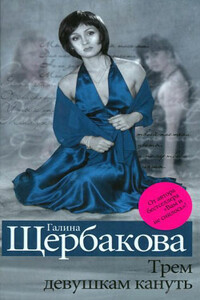Актриса и милиционер | страница 33
— Нора… — сказал он. В сущности даже не сказал. Прошептал.
И она остановилась. Так же быстро как вперед, она теперь шла назад, а потом на скользком месте, у того же поребрика, стала разглядывать Вадима Петровича живыми глазами, сняв темные очки.
Он понял, что она не узнает его, что в ее осматривании — сплошное непризнание, и ничего другого. Теперь, без очков, с сеточкой морщин вокруг глаз, со слегка набрякшими веками, она была той, которую он узнал бы не то что по кончику носа — по ветряной оспинке, которая сидела у нее над бровью; по жесткому волосу, что ни с того ни с сего вырастал у нее на подбородке, и она тащила его пинцетом, а потом внимательно рассматривала на свет, пытаясь понять природу его ращения. Он помнил вкус ее кожи, запах подмышек, выскобленных до голубизны. Он жалел все, что она уничтожала на себе: и подбородочный волосок, и все ее другие выбритые волосы; он печалился, когда она изводила свой естественный цвет на какой-нибудь эдакий новомодный. Смешно сказать, он много лет носил при себе обломок ее зуба, когда она сломала его, грызя им купленные орехи. Ей тогда сделали новый зуб, не отличимый от прежнего. Но он отличал. Он знал разницу.
А вот теперь она разглядывала его почти сто пятнадцать часов, даже голову склонила к левому плечу — и ничего. Ни одного сигнала памяти.
— Видимо, вы ошиблись, — сказала она глупо, можно сказать, бездарно, потому что зачем же тогда она вернулась на сказанное шепотом редкое свое имя? Не Катю же окликнули, не Лену, не Машу, не Дашу… Коих пруд пруди… Нору.
Он же думал, как она смеялась: «Иванов! Как это жить с такой фамилией, когда тебя легион?»
— «Но ведь живу!» — отвечал он.
Тут же, у поребрика, он ощутил себя эдакой «ивановской сплющенной массой» без начала и конца, не вычленимой для идентификации.
Вот какая казуистика жизни: тебя могут не узнать в то самое лицо, которое когда-то це-ло-ва-ли.
— Я Вадим, — сказал Вадим Петрович. — Бездарно было не представиться сразу. Сколько лет прошло! Столько уже и не живут.
Меньше всего он ожидал, что еще до того как он договорит, она так обнимет его и так вожмется в его грудь, что сердце сначала замрет, потом подпрыгнет на качеле систолы, потом ухнет вниз, и он начнет искать в кармане нитроглицерин, потому как два инфаркта он уже имел за это время, которое обозначил: «столько не живут».
МЕМОРИЯ
Это безусловное преувеличение. Потому что прошло всего ничего — двадцать шесть лет, а даже в нашей лучшей из всех стране, имеющей весьма низкий уровень, живут пока еще, если взять на круг, несколько больше. Тут ведь главное — пережить какие-то критические годы: тридцать семь там, или сорок два, или критически-менструальные дни страны — войны, революции, перестройки, а также другие явления типа Чернобыль, «Нахимов», «Руслан». Но зачем пенять на страну? Мы живем больше двадцати шести. И спасибо ей.