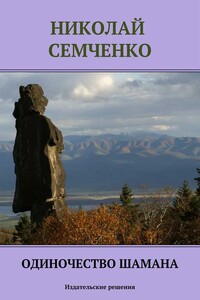Лягух | страница 46
Бедная Матушка! Она была обречена на огорчения либо неприятности, или то и другое вместе, вызванные сыном либо отцом, или ими обоими. Представьте себе мою Маму, такую же молодую, как графиня, и еще миловиднее, чем она! Ничто не оправдывало ее существования и не внушало ей хотя бы малейшего чувства собственного достоинства, кроме кулинарного искусства, которым она занималась на славу — ради всех нас. Бедная милая Матушка! Как благородна была ее сентиментальность! Если бы она только могла хоть раз увидеть Армана — и не глазами несчастной Соланж, а моими собственными!
Когда Папа вернулся в первый раз, сдерживая гордую мальчишескую улыбку, он доставил графа обратно, под ликующие возгласы небольшой толпы жен и смущенных крестьян. Среди них было несколько мужчин, которые еще не сгинули в смутных шеренгах, ну и, конечно, я. Возвращение этого бедняги не доставило мне никакого удовольствия, поскольку его безудержное веселье разрушило ту радость, которую я мог бы почувствовать, увидев, как он отдает честь графу и поворачивается к Маме. Та широко улыбалась, забыв об этикете и принимая его с распростертыми объятиями. По этому случаю, Папа полночи не давал нам с матерью спать своими рассказами и объяснениями собственного везения. Хорошо, что хоть у Армана хватило ума сидеть смирно, пока мы с Мамой потакали папиному упоению собой.
Папа пережил небольшое разочарование, на котором не хотел долго останавливаться: его не назначили графским денщиком. Однако он получил достаточное вознаграждение, поскольку вся армия нашей страны, или, по крайней мере, целый ряд командиров, ответственных за благоденствие сынов отечества, включая самого Папу, относилась к нему с редкостной благосклонностью и здравомыслием.
— Двадцать и один! — не раз восклицал Папа в течение этой долгой ночи. — Двадцать и один!
Видимо, эта странная фраза напоминала ему о двадцати двух зубах моей несуществующей бабушки, поскольку он еще долго повторял ее себе под нос, после того как разъяснил нам ее смысл. От этих двух слов зависела вся папина жизнь или, точнее, перемена в его жизни, которая оказалась действительно серьезной.
— Еще вина, Мишель-Андре? — спрашивала сонная Мама, вероятно, надеясь, что это угомонит отца и ему, наконец, захочется спать.
Но в полнейшей тишине он радостно и невнятно бормотал: «Двадцать и один!» — а затем снова с жаром рассказывал о работе, доверенной ему генералами. Объяснение, которое ему удавалось столько часов от нас скрывать, было простым: кавалерия! Вот где собака зарыта, как выразился мой отец.