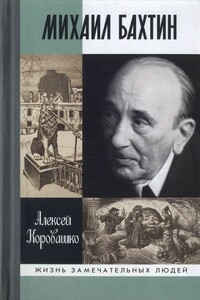Пушкин (часть 2) | страница 52
Между тем закончил начатую еще в Геттингене свою диссертацию: "Ифика, или наука о нравах". Глава о страстях и равнодушии, разуме и суевериях мне удалась. Не знаю, кто согласится издать?
Познакомился с кучей народа у Василья Федоровича: с Иконниковым (гувернером), французом г. де Будри и Калиничем. Иконников малый добрый, но пугливый, и пахнет от него водкою. Калинич будет учить каллиграфии, а у самого руки дрожат. Громаден и бессловесен. Г. де Будри в завитом парике, толст и горд. Пригласил меня к себе.
Брат Михайло отпросился на день ко мне. Увидя меня во фраке, приготовляющегося идти куда-то, так оробел, что стал говорить мне вы. Едва я его усадил и едва сдержал слезы. Что с ним сделали, с Мишею! Он солдат, словно солдатом родился, руки по швам, и уныние на лице. Не знаю, может ли сделать воспитание из животного человека, но что из человека может сделать животное – верю.
Был у Давида Ивановича де Будри и не могу опомниться. Признаюсь, насаленный и напудренный парик, бархатный камзол и гордый привесок к фамилии "де" – не по мне. Я видел обнищалых французских вельмож. Эти птицы, которые с места подняты стужею, учат вместе с французским языком наших барчат и манерам, как держать вилку, кланяться и проч. Нищета их еще более надувает гордостью, а знания невелики.
Старый де Будри живет на Разъезжей. Подойдя к дому, я сразу увидел его голову в окне первого этажа: он сидел без парика, в очках, курил трубку и читал книгу.
Сначала он меня не узнал и встретил с важностью; я помешал ему. Я напомнил о себе, старик тотчас оживился, и важности как не бывало.
Разговор зашел о моем путешествии по Германии. Я вспомнил свое возвращение, Дрезден и имел неловкость заговорить о тамошней статуе Густава II, которая меня поразила: пресмешной немецкой работы, в огромном парике, похожем на лошадиную гриву. Тут г. Будри взглянул на меня довольно свирепо. Как я поставил себе за правило признаваться в оплошностях, то и сказал ему, что смеюсь не над париком, а над статуей.
Г. де Будри хоть остыл, но еще долго молчал.
Я сказал, что не думаю долго пробыть в лицее, так как цель моя – издание журнала. Он ответил довольно сурово, что ни смолоду, ни позднее тоже не думал, что будет учителем. Здесь, в России, у него была галунная фабрика, но император Павел, произведя перемены в костюмах, разорил его.
Де Будри слышал от Василья Федоровича о моей речи, еще не сказанной. Он спросил меня, какую нравственную философию буду я читать, потому что слышал, что это будет то же, что и закон божий. Кто наплел ему? Я возразил, что закон божий не трактует ни о страстях, ни о разуме, ни об общественном договоре, то есть то, что говорю в начале своей Ифики. Тут де Будри вдруг стал быстро похаживать по комнате, заложив руки за спину и молча. Потом, остановившись передо мною, стал так быстро говорить, что я попросил говорить не так шибко, потому что во французском языке не скор. Он повторил: это было суждение одного его друга, математика. По суждению этому – рост человека то же, что и рост бабочки, а молодость больше всего опасна неподвижностью и отсутствием жизни, бывающим у куколки. Дать вылететь бабочке – вот вся задача учения. Но для этого нужно правильное мышление. Мне понравилась эта мысль, но я сказал, что иной раз бабочка вылетает не та, которой ждут, с чем он согласился. Друга своего он назвал Роммом. Портрет его висит на стене. Лицо сумрачное, глаза впалые. Старик объяснил, что встретился с Роммом уже в Петербурге – почти тридцать лет назад, где они были les outchiteli: де Будри в доме графа Салтыкова, а друг его – воспитатель молодого Строганова. Ромм вскоре с воспитанником уехал в Париж; и более они не виделись, затем что Ромм умер.