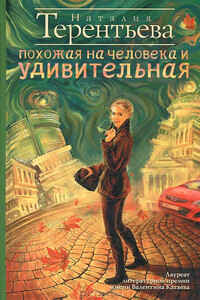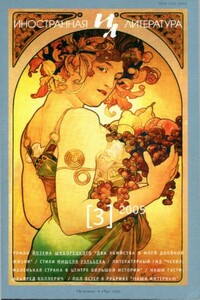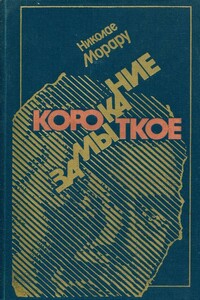Лошадь на крыше | страница 60
— Программа такая, — продолжал как не в чем ни бывало он, — тихий домашний ужин у меня, бутылка изумительного розового вина и один твой нежный взгляд. Да, и еще… прелестный тебе подарочек, если обещаешь не говорить мне, какая я свинья.
Я сидела в машине, смотрела на него и думала: «Вот сейчас мы с тобой расстанемся до следующих выходных. Но ты так мне ничего и не сказал. Значит, на том наш предновогодний разговор и закончится… А я ведь могу не ждать, пока это скажешь ты… Ведь бывает по-разному. Я же имею право тебе сказать, что хочу вторую половину своей жизни провести с тобой. Смелости не имею, а право свое ощущаю. Разве наша любовь не дает мне такого права? Сказать, что я хочу гладить тебе рубашки и варить борщи, я ведь готовлю гораздо лучше, чем шеф-повар в „Дяде Ване“, лечить твои острые респираторные заболевания и плохое настроение, целовать умные усталые глаза, смотреть вместе с тобой, как другие мужчины, более ловкие и стройные, играют в мячик на большом зеленом поле, смеяться твоим шуткам, которыми ты пытаешься уберечься от грустных мыслей — о том, как коротка и печальна наша жизнь… Что я буду верить в тебя, внимать тебе и любить тебя, любить… До самой последней минуты нашей жизни. И после нее тоже».
Я несколько раз набирала воздух, чтобы сказать все это, и все не решалась начать разговор.
— Ты что так тяжело вздыхаешь? — покосился он на меня.
— Я сделала руны, — ответила я.
Я увидела, что он хотел сострить, несколько секунд искал похожее слово или рифму, чтобы вышло смешно, как-нибудь не очень прилично. Не нашел и нахмурился. Я поспешила продолжить:
— Я сделала руны — перерисовала их из книжки. Погадала, и они дали мне очень мудрый совет: чтобы я не ссорилась с тобой, а…
— О! Вот послушай! — ответил он. — Послушай-послушай, — и подкрутил погромче радио в машине.
— «Маша и Медведи», что ли? — спросила я, не понимая, что же такого необыкновенно ценного в крепеньком переливчатом голоске лысой певицы Маши, чтобы обрывать наш важный разговор.
— Да, да! Ты послушай слова! — ответил он.
Я прислушалась. Может, стриженная налысо Маша поет про единственную любовь, которую человек обретает в сорок лет? И ради которой все же решается изменить свою упакованную, сытую, размеренную жизнь со строго регламентированными праздниками, раз и навсегда установленным реестром друзей и родственников и, соответственно, — реестром чужих. Тех, кто никогда не попадет на семейное торжество. Тех, кого ты просишь по телефону представляться чужим именем. «Так надо! Так лучше, беби, неужели ты сама не понимаешь? Ну зачем же всей Москве знать о моей личной жизни?..»