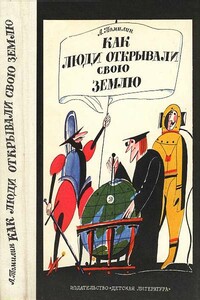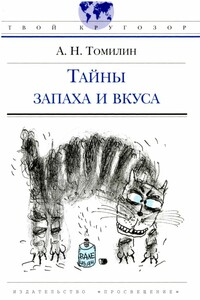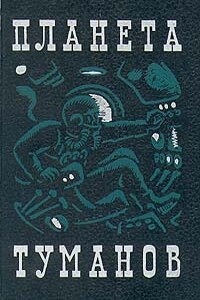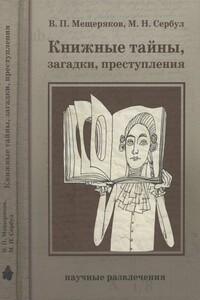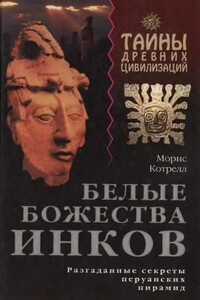Заклятие Фавна | страница 64
С основанием Академии наук в России, в Санкт-Петербурге, возникла чуждая русскому обществу колония иностранцев, которые мало соприкасались с той средой, в которую оказались внедрены. Они не были торговцами, не являлись лекарями, мастеровыми, ремесленниками, то есть теми, чей труд был понятен, привычен для русских людей и чье пребывание в стране не вызывало недоумения. В Академию наук большинство специалистов приглашалось не для решения конкретных проблем, а с единой целью — привить в России европейскую образованность. Но для этого мало было набрать хороших и знающих людей. Нужно было сначала, как говорил в свое время Василий Никитич Татищев, «приуготовить землю, на которую сеять». А этому мало помогали реформы, не решали вопрос повинности. Все они — от указов об основании новых школ и расширении старого «книжного почитания» до запрета жениться дворянским детям без минимума образованности — касались внешней, поверхностной жизни государства. Чтобы просвещение вошло в плоть и кровь народные, нужны были свои Коперники и Галилеи, Бэконы, Декарты, Лейбницы. Они должны были не просто усвоить основы новых начал, не просто понять их, но впитать их органически, «переварить» и переосмыслить. И тогда на «приуготовленной земле», на своей национальной основе, развивать дальше новое мировоззрение, понятное широкому кругу соотечественников. Развивать его в русле мировой науки.
Приезжие иноземцы в большинстве своем честно занимались задачами практического изучения России. Но ни цели, поставленные перед ними, ни методы, ни результаты их работы, описанные латынью, на немецком или на французском языках, не были понятны большинству русских. Даже первые переводы этих работ оказывались столь же темными, как и оригиналы. В русском языке того времени отсутствовала терминология, тождественная европейской. Не существовало самого научно-логического строя, способного излагать отвлеченные понятия и естественнонаучные истины. Русские риторы понаторели в спорах богословских, в борьбе против остатков язычества на широких просторах державы, но естественнонаучный язык выработан не был. И потому первые переводы, пытавшиеся передать смысл иноземной учености, были совершенно невразумительны. «Прочный корень науки мог быть положен только, когда ее содержание было принято не на веру, не из подражания, не под давлением чужого авторитета, а самостоятельно продумано и усвоено умом, способным к независимому исследованию, и вошло в его собственную природу. В первый раз это сделано было Ломоносовым, и в этом была его великая заслуга, залог обширного влияния в течение XVIII века и историческое значение в русской литературе»