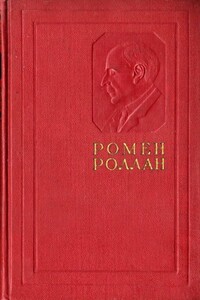Жан-Кристоф. Том IV | страница 92
Кристоф готов был целовать руку Брауна, просить у него прощения. Браун увидел, что Кристоф потрясен, и тотчас, ужаснувшись, отвел глаза; потом, умоляя его взглядом, забормотал, зашептал:
— Нет, не правда ли? Ты ничего не знаешь?
Кристоф, подавленный, ответил:
— Нет, не знаю.
Какое мученье, когда не можешь сознаться в своей вине, унизить себя, ибо это значило бы разбить сердце того, кому ты нанес оскорбление! Какое мучение, когда не можешь сказать правду, когда читаешь в глазах того, кто спрашивает о ней, что он не хочет, не желает знать правду!..
— Хорошо, хорошо, благодарю, благодарю тебя… — промолвил Браун.
Он стоял, уцепившись обеими руками за рукав Кристофа, избегая его взгляда, как будто хотел и не решался спросить его еще о чем-то. Потом отпустил его, вздохнул и ушел.
Кристоф был потрясен своей новой ложью. Он побежал к Анне. Рассказал ей, заикаясь от волнения, о том, что произошло. Анна угрюмо выслушала и сказала:
— Ну что же, пусть узнает! Не все ли равно?
— Как ты можешь так говорить? — возмутился Кристоф. — Ни за что, ни за что на свете я не допущу, чтобы он страдал!
Анна вспылила:
— А что из того, что он будет страдать! Разве я не страдаю? Пусть страдает и он!
Они наговорили друг другу много горьких слов. Он обвинял ее в том, что она любит только себя. Она упрекала его в том, что он думает о ее муже больше, чем о ней.
Но минуту спустя, когда он сказал, что не может больше так жить, что он во всем сознается Брауну, она тоже обозвала его эгоистом, крича, что ей нет дела до совести Кристофа и что Браун ничего не должен знать.
Она говорила жестокие слова, а думала о Брауне не меньше, чем Кристоф. Она не чувствовала к мужу настоящей любви, но все-таки была к нему привязана. Она относилась с религиозным благоговением к общественным узам и обязанностям, которые эти узы налагают. Она не думала, быть может, что жена обязана быть доброй и любить своего мужа, но считала, что должна добросовестно исполнять долг хозяйки и оставаться верной мужу. То, что она не выполнила этого обязательства, казалось ей отвратительным. Она понимала лучше Кристофа, что Браун скоро узнает все. И немалой заслугой ее было то, что она скрывала это от Кристофа, — либо потому, что не хотела усиливать его смятение, либо, скорее всего, из гордости.
Как ни замкнута была жизнь Брауна, как ни скрыта была семейная трагедия, разыгравшаяся в его доме, кое-что просочилось наружу.
Никто в городе не мог похвастаться тем, что окружил свою жизнь тайной. Удивительное дело! На улицах никто на вас не смотрит; двери и ставни домов закрыты. Но в углах окон подвешены зеркала, и, проходя мимо, слышишь сухой стук приотворяемых и затворяемых ставней. Никому нет дела до вас; кажется, что никто вас не знает, но очень скоро вы обнаруживаете, что ни одно ваше слово, ни одно движение не прошло незамеченным; знают, что вы сделали, что вы сказали, что вы видели, что вы ели; знают даже или воображают, что знают, о чем вы думали. Вас окружает какой-то тайный круговой надзор. Прислуга, поставщики, родные, друзья, посторонние, случайные прохожие — все по молчаливому соглашению участвуют в этом бессознательном соглядатайстве, разрозненные звенья которого каким-то образом соединяются. Следят не только за вашими поступками, — исследуют ваше сердце. Никто в этом городе не имеет права скрывать свое святая святых; но всякий имеет право влезть к вам в душу, рыться в ваших сокровенных мыслях и, если они оскорбляют общественное мнение, требовать от вас отчета. Незримый деспотизм коллективной души тяготеет над личностью; она всю свою жизнь — опекаемое дитя; ничто ей присущее не принадлежит ей; она принадлежит городу.