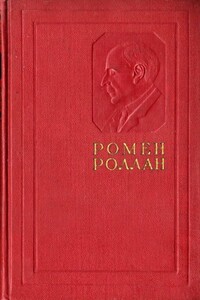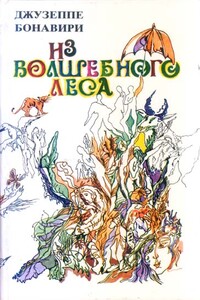Жан-Кристоф. Том IV | страница 64
Зазвонили колокола на башне. От церкви к церкви, перекликаясь, пошел ответный звон… Кристоф не сознавал, сколько времени прошло. Когда он снова поднял голову, колокола умолкли, солнце скрылось. Слезы облегчили Кристофа; дух его был словно омыт этими слезами. Он прислушивался, как бьется в нем струйка музыки, и глядел, как скользит в вечернем небе тонкий лунный серп Шум возвращавшихся шагов пробудил его. Он поднялся к себе в комнату, заперся на ключ и дал волю музыкальной волне. Браун позвал его к обеду, стучал в дверь, пытался открыть ее — Кристоф не ответил. Встревоженный Браун поглядел в замочную скважину и успокоился, увидев, что Кристоф полулежит на столе среди листов исписанной бумаги.
Несколько часов спустя Кристоф, истомленный, спустился вниз и нашел в нижней гостиной доктора, — тот терпеливо поджидал его за книгой. Он обнял его, извинился за свое поведение с самого приезда и, не дожидаясь расспросов Брауна, начал рассказывать драматические события последних недель. В первый и последний раз заговорил он об этом, да и то он был не уверен, что Браун вполне его понял, ибо Кристоф рассказывал бессвязно; было уже за полночь, и, несмотря на все свое любопытство, Браун до смерти хотел спать. Наконец (когда пробило два часа), Кристоф это заметил. Они пожелали друг другу покойной ночи.
Начиная с этой минуты, жизнь Кристофа потекла по-новому. Хотя и улеглось состояние мимолетного возбуждения и он снова поддался своей грусти, но грусть уже стала нормальной, не мешающей жить. Надо же было снова вернуться к жизни! В этом человеке, который только что потерял то, что любил больше всего на свете, которого терзало горе, в этом человеке, носившем в себе смерть, была такая избыточная, такая тираническая сила жизни, что она прорывалась в его скорбных словах, светилась в его глазах, видна была в его губах, сквозила в его движениях. Но в самой сердцевине гнездился подтачивавший ее червь. У Кристофа бывали приступы отчаяния. Это налетало на него внезапно. Вот он спокоен, старается читать или гулять — и вдруг улыбка Оливье, его усталое и нежное лицо… Точно полоснули ножом по сердцу… Он пошатывается, со стоном прижимая руку к груди. Однажды он сидел за роялем и с прежним жаром играл Бетховена. Вдруг он остановился, повалился на пол и, зарыв лицо в подушки кресла, воскликнул:
— Дорогой мой!..
Тягостнее всего было ощущение, что все это он уже когда-то переживал; такое ощущение появлялось у Кристофа на каждом шагу. Он беспрестанно узнавал прежние жесты, прежние слова, вечное повторение старых переживаний. Все было ему знакомо, все предугадано. Такое-то лицо, напоминающее лицо, знакомое в прошлом, либо скажет (он заранее был уверен в этом), либо уже говорит те самые слова, что говорили те, другие; сходные существа проходят через сходные фазы, наталкиваются на те же препятствия и одинаково при этом поступают. Если правда, что «ничто не отвращает нас от жизни так, как повторность любви», то насколько же больше должна отвращать нас повторность всего вообще! С ума можно сойти! Кристоф старался не думать об этом, поскольку необходимо было не думать об этом, чтобы жить, а жить он хотел. Мучительное лицемерие, не желающее осознать себя из чувства стыда, из чувства хотя бы благородства, — неодолимая, затаенная потребность жизни! Зная, что нет утешения, человек создает себе утешение сам. Убежденный, что жизнь не имеет никакого смысла, он создает себе смысл жизни. Он уверяет себя, что ему необходимо жить, хотя никому, кроме него одного, это не нужно. В случае надобности он придумает, что умерший вдохновляет его на жизнь. И он знает, что сам приписывает мертвому те речи, которые хочет от него услышать. Какое убожество!..