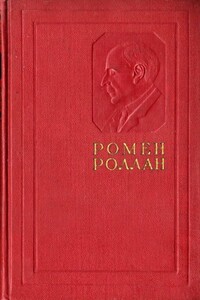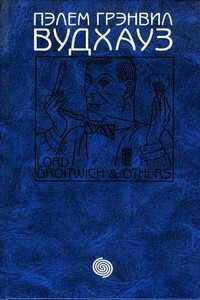Жан-Кристоф. Том IV | страница 61
Вторая ночь прошла спокойнее. Тяжелый сон погрузил Кристофа в небытие. Ни следа ненавистной жизни… Но еще ужаснее было пробуждение. Задыхаясь, он припоминал все подробности рокового дня, нежелание Оливье выходить из дому, настойчивые его просьбы вернуться, и в отчаянии думал: «Это я убил его…»
Ему невыносимо было оставаться одному, взаперти, неподвижным, в когтях лютоглазого сфинкса, который продолжал мучить его головокружительным безумием своих вопросов и трудным своим дыханием. Кристоф вскочил, с трудом вышел из комнаты, спустился по лестнице; у него была инстинктивная, малодушная потребность потеснее прижаться к людям. Но едва он услышал чужой голос, ему захотелось бежать.
Браун был в столовой. Он встретил Кристофа обычными дружескими восклицаниями и тотчас же принялся расспрашивать о парижских событиях. Кристоф стиснул ему руку.
— Нет, — сказал он, — не спрашивайте меня ни о чем. После… Не сердитесь на меня. Я не могу. Я устал…
— Знаю, знаю, — ласково сказал Браун. — Нервы ваши претерпели сильную встряску. Это волнение последних дней. Не говорите. Не стесняйте себя ни в чем. Вы свободны, вы у себя дома. Никто не будет вас беспокоить.
Он сдержал слово. Чтобы не утомлять больше своего гостя, он ударился в противоположную крайность; не осмеливался разговаривать при нем с женой; они говорили шепотом, ходили на цыпочках; весь дом точно онемел. Наконец Кристоф, раздраженный этим шепотом и неестественной тишиной, попросил Брауна продолжать жить по-прежнему.
Теперь никто уже не занимался Кристофом. Он часами просиживал в углу комнаты или бродил по дому, о чем-то мечтая. О чем он думал? Он и сам не мог бы на это ответить. У него едва хватало сил для того, чтобы страдать. Он был точно пришиблен. Сухость собственного сердца ужасала Кристофа. У него было одно желание: чтобы его похоронили вместе с ним и чтобы все было кончено. Однажды дверь в сад оказалась отворенной, и он вышел. Но ему так тягостен был яркий свет, что он поспешил вернуться домой и забаррикадировался у себя в комнате, затворив ставни. Ясные дни мучили его. Он ненавидел солнце. Природа подавляла его своей грубой безмятежностью. За обедом он молча съедал то, что подкладывал ему Браун, и, уставившись взглядом в стол, не произносил ни слова. Однажды Браун указал ему в гостиной на рояль; Кристоф с ужасом отвернулся от него. Всякий шум был ему ненавистен. Тишина, тишина и мрак!.. В нем не оставалось ничего, кроме пустоты и потребности в пустоте. Его покинула радость жизни, эта могучая птица радости, которая некогда вдохновенными взлетами с песней уносилась ввысь. Целыми днями просиживал он в своей комнате, и единственным ощущением жизни был для него неровный пульс часов в соседней комнате, который, казалось, бился у него в мозгу. И все-таки дикая птица радости жила еще в нем; она вдруг порывалась лететь, она билась о стены клетки; и в глубине души поднималось ужасное смятение тоски — «вопль отчаяния существа, оставшегося одиноким в огромном пустынном пространстве…»