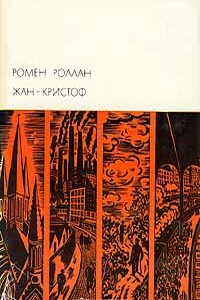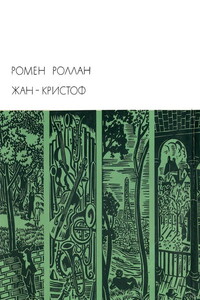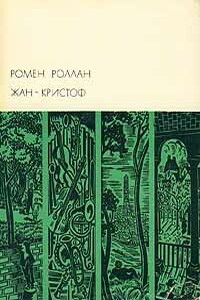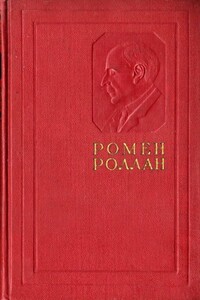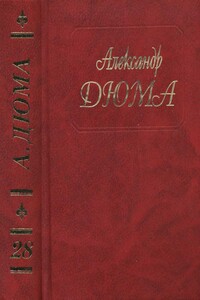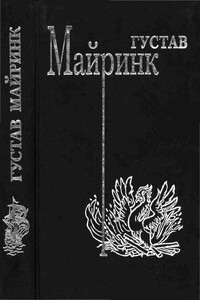Жан-Кристоф. Том II | страница 75
Возможно, Кристоф был прав, но он еще не был достаточно искушен, чтобы безнаказанно углубляться в дебри искусства, искусства самого трудного, если только художник действительно стремится сделать его подлинным искусством. Главное условие, которого оно требует, — это полная гармония совокупных усилий поэта, музыканта и исполнителей. Кристофа это не беспокоило: он сам установил законы нового искусства и смело пустился в неведомый путь.
Первой его мыслью было переложить на музыку какую-нибудь феерию Шекспира или один из актов второй части «Фауста». Но такой эксперимент не очень соблазнял театры: они предвидели большие и к тому же бесцельные расходы. Они допускали, что Кристоф — авторитет в музыке, но когда он позволял себе рассуждать о театре, это вызывало улыбку, и его не принимали всерьез. Мир музыки и мир поэзии, по-видимому, были двумя совершенно обособленными и втайне враждующими мирами. Стремясь найти доступ в царство поэзии, Кристоф вынужден был согласиться на сотрудничество поэта, но ему не позволили сделать выбор по собственному влечению. Да он и сам не решился бы выбирать: он не доверял своему литературному вкусу; ему втолковывали, что он ничего не смыслит в поэзии; и он действительно ничего не смыслил в той поэзии, которая приводила в восторг окружающих. Как ни бился Кристоф, стараясь, со свойственной ему искренностью и настойчивостью, почувствовать красоту расхваливаемых стихов, он, к стыду своему, неизменно терпел поражение: нет, решительно он не был поэтом. Он страстно любил некоторых поэтов прошлого, и это утешало его. Но он, должно быть, любил их не так, как полагалось. Не он ли выразил однажды ни с чем не сообразную идею, будто поэт, если он велик, остается великим и тогда, когда мысли его пересказываются даже прозой, даже на иностранном языке, и что цену словам поэта придает только его душа? Друзья подняли его на смех. Маннгейм обозвал его лавочником. Но Кристоф не сделал попытки отстоять свои взгляды. Ведь он ежедневно убеждался на примере литераторов, рассуждающих о музыке, как смешны бывают художники, когда судят о чуждом им виде искусства. Он примирился с тем, что ничего не смыслит в поэзии (хотя в глубине души не был в этом убежден), и принимал на веру мнения людей, которых считал более сведущими. Вот почему Кристоф уступил приятелям по журналу, навязавшим ему «знаменитого поэта» из декадентского кружка Стефана фон Гельмута, который принес ему свою переделку «Ифигении». В ту пору немецкие поэты (как и собратья их во Франции) взялись перекраивать все греческие трагедии подряд. Творение Стефана фон Гельмута было одной из тех удивительных греко-немецких пьес, в которых читателю преподносилась мешанина из Ибсена, Гомера и Оскара Уайльда плюс трактаты по археологии. Агамемнон страдал неврастенией, Ахиллес — бессилием; они пространно и скучно сокрушались об этом, но от их жалоб дело, разумеется, не менялось. Весь пафос драмы был сосредоточен на роли Ифигении; Ифигения — неврастеничка, истеричка, синий чулок — поучала героев, декламировала истошным голосом, излагала публике свои пессимистические, ницшеанские взгляды и, опьяненная жаждой смерти, убивала себя с громким смехом.