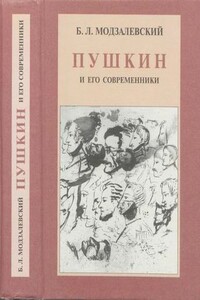Спасибо, сердце! | страница 23
На таких балах я был первым человеком. Еще бы – петь, играть, даже читать Гоголя и остаться незамеченным! Моим коронным номером было выступление в хоре. Хор запевал:
и особенность моего исполнения заключалась не столько даже в манере пения, сколько в слезах, которые градом катились из моих глаз: мне было мучительно жаль соловья. Слушатели поднимались со своих мест, подходили к самой эстраде, восторженно и удивленно смотрели на рыдающего «соловья».
Я даю вам честное слово, что у меня тогда и мысли не было, что когда-нибудь пение песен на эстраде будет моей профессией, но еще меньше я мог предполагать, что слезы будут всегда подступать к горлу.
сколько бы раз ни произносил я эти слова – ком в горле перехватывал дыхание Утесову, как когда-то маленькому Леде. Только теперь я научился владеть собой и усилием воли сдерживать слезы: то, что нравилось в маленьком мальчике, у взрослого может выглядеть сентиментально… И я сдерживаюсь, но всегда жалею о том времени, когда я мог свободно отдаваться чувству и не контролировать свои эмоции.
Помимо официальной «концертной деятельности» была у меня еще и самодеятельность. Некто по фамилии Шатковский, сын очень богатых родителей, был тем самым великовозрастным учеником у Файга, о котором я уже говорил. Учиться он не хотел – его тянуло совсем к другому. Он был необыкновенно красив – высокий блондин– с голубыми глазами, с точеным лицом и очаровательным голосом. На гимназисток, приходивших к нам на вечера, он производил неотразимое впечатление. Да что гимназистки! Даже мы, малыши, все были поголовно влюблены в него – столько было в нем обаяния. Шатковский же покровительствовал мне, чем я немало гордился. Ему нравилась моя страсть к музыке и мой звонкий голос.
И вот, обычно на больших переменах, он сажал меня к себе на плечо и широким шагом ходил вокруг огромного зала. Во время этого шествия мы с ним на два голоса распевали «Круцификс»:
пели мы, и по залу плыла величественная мелодия. В этой духовной музыке было столько силы, что даже мальчишки, так склонные к шалостям и дракам, замирали и с волнением слушали нас.
Я был в первом классе, а Шатковский в пятом. Мне казалось, что впереди у нас еще много таких же счастливых дней. Но вдруг Шатковский исчез – я это переживал, как трагедию, я просто с ума сходил, ибо не было для меня ничего прекраснее и желаннее на свете, чем музыка.